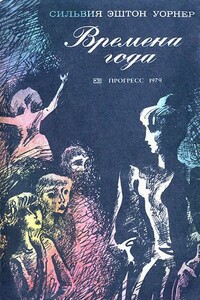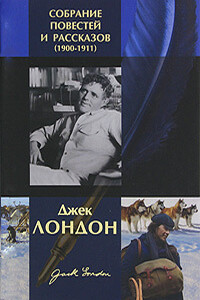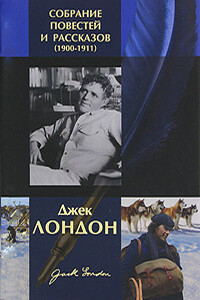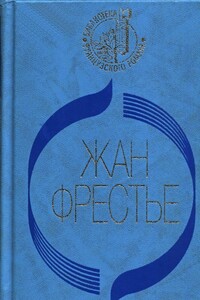Новозеландская писательница Сильвия Эштон-Уорнер (род. в 1908 г.), с творчеством которой впервые знакомится советский читатель, известна у себя на родине не только как автор ряда романов, но и как педагог. Много лет Сильвия Эштон-Уорнер вместе с мужем преподавала в школе для коренного населения Новой Зеландии – маори, и преподавательский опыт лег в основу большинства ее произведений. Таковы, в частности, книги «Времена года» (1958) и «Учитель» (1963).
Действие романа «Времена года» развертывается в маорийской школе в маленьком поселке где-то на севере Новой Зеландии вскоре после второй мировой войны. Официально в школах Новой Зеландии нет расовой дискриминации, однако фактически расовые предрассудки дают себя знать: в маорийских школах – они созданы в районах с преобладанием маорийского населения – учатся и белые дети, но их очень немного, и все они из бедных семей. Как правило, белые отвергают местную маорийскую школу, посылая своих сыновей и дочерей в школы-интернаты вдали от дома. Так обстоит дело и в начальной маорийской школе, описанной в романе.
По форме книга представляет собой лирический дневник учительницы приготовительного класса Анны Воронтозов. День за днем Анна ведет дневник, и читатель узнает о больших и маленьких событиях ее жизни, о ее радостях и неудачах, знакомится с учениками мисс Воронтозов (их у нее более семидесяти), с ее коллегами. Анна уже немолода, личная жизнь ее не устроена, и все силы своей души, всю свою доброту и человечность, все свои творческие способности она отдает детям. Анна горячо увлечена своим делом, профессия педагога для нее – искусство любви к людям, средство взаимопонимания, преодоления барьеров разобщенности. Но творческие искания Анны-учительницы так и не находят отклика у представителей официальной, казенной педагогики – в результате переаттестации она получает низший балл. Потерпев очередную неудачу, Анна решает уехать из Новой Зеландии. Но это ее решение не воспринимается как дезертирство и отказ от борьбы, концовка романа проникнута надеждой вновь вернуться к любимому делу, к детям.
Мне нужен только порыв вдохновенья[1]
Дж. М. Хопкинс, стихотворение 76
– Что случилось, что случилось, малыш?
Я встаю на колени, теперь мы одного роста, и я треплю его по подбородку. Слезинки выливаются из огромных карих глаз и текут по щекам.
– Они... они наступили на мою больную ногу... взяли и наступила. Они.
Я опускаюсь на низенький стул, сажаю малыша на колени и прячу его черную голову у себя под подбородком.
– Ну-ка... ну-ка... посмотрите на моего славного мальчика.
Но по ночам, лежа в своей узкой постели, вдали от неразберихи и бурного веселья приготовительного класса, я сама становлюсь малышом. Прежде чем погасить свет и открыть окно, я достаю фотографию. Она истерта подушкой, захватана пальцами, полита слезами, и все-таки лицо мужчины еще живо. Я угадываю в нем все знакомые оттенки настроения и нежность, которое так жаждет мое сердце старой девы. Но воспоминания лишь торопят слезы. Юджин больше не сажает меня на колени, не прячет мою черную голову у себя под подбородком и не говорит: «Ну-ка... ну-ка... посмотрите на мою славную девочку».
Вот уже столько безгрешных лет.
А к нам снова пришла весна и снова вдохнула в нас жизнь, и утром, когда я, покончив со всеми приготовлениями, спускаюсь по ступенькам заднего крыльца, мой взгляд останавливается на дельфиниумах. Они наводят меня на мысль о мужчинах. Так пышно они расцветают летом, так стремительно осыпаются зимой, так безоглядно вновь рвутся к небу в пору роста, что в моих глазах они олицетворяют любовь. Сейчас они еще дети, но я не могу забыть, как явственно напоминает пронзительная голубизна их цветов просветленную страсть. Моя жизнь до того убога, что я заранее ослеплена предстоящим голубым пиром, голубым праздником, который приходит с ними в мой сад. Без всяких видимых причин я разражаюсь слезами. Какая непозволительная роскошь – пожалеть себя! Какая радость плакать весной!
Но, увы, это удовольствие быстротечно, и скоро я уже только шмыгаю носом. Хватит, пора успокоиться, надо вымыть лицо и снова напудриться. И, пожалуй, выпить бренди, чтобы заставить ноги повиноваться. Но когда я во второй раз спускаюсь по ступенькам, мне все равно трудно пройти мимо нежных побегов дельфиниума. Они столько могли бы рассказать. В них столько мудрости, что кажется, будто они постигли все тайны бытия.
Полстаканчика бренди все-таки дают себя знать, и вот я уже закована в непроницаемую броню. Я прохожу через сад и иду то тропинке, напевая какую-то невинную песенку.
Но когда я пересекаю огороженное пастбище, которое лежит между моим старым причудливым домом и школой, и подхожу к таллипотовым пальмам на границе наших владений, когда я вижу сборный домик, где учу детей, меня останавливает нечто более могущественное, чем новая жизнь в моем саду. Тяжелые руки опускаются на мои плечи, и когтистые пальцы впиваются в горло. А я надеялась забыть о Винé. Надеялась, что мы расстались навсегда, а Вина, оказывается, просто пережидала зиму. О коварство весны! Неужели все и вся оживает весной?