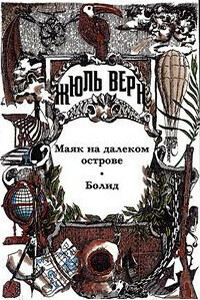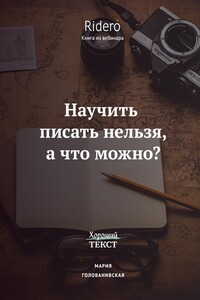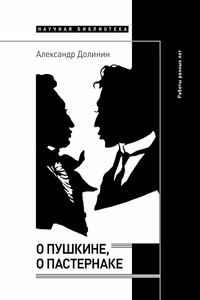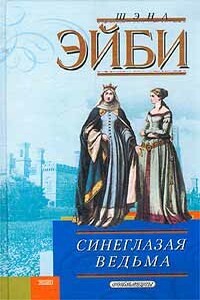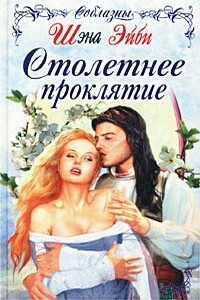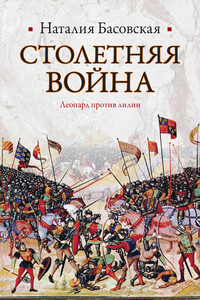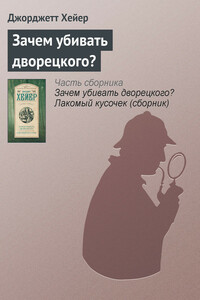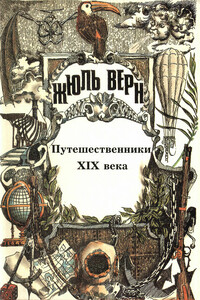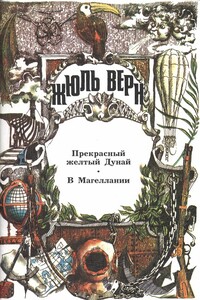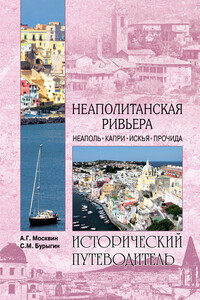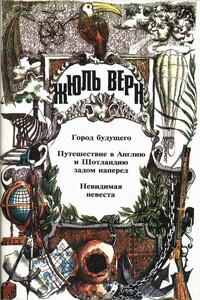А.Г. Москвин
ВОЗВРАЩЕННЫЕ ПОДЛИННИКИ
Публикуемые в этом томе романы Ж. Верна относятся к так называемым «посмертным», то есть к тем, что остались не опубликованными при жизни писателя, хотя работа над ними была закончена. В частности, «Маяк на краю Света» был завершен 17 мая 1901 года, «Охота за метеором» — 15 декабря 1901 года. Рукописи лежали в кабинете и ждали своей очереди, чтобы отправиться в Париж, в издательство Л.-Ж. Этцеля. Оставалось, правда, внести кое-какую правку: сверить написания имен и географических названий, правильность арифметических расчетов и еще некоторые мелочи, что Верн обычно делал после получения оттисков типографского набора.
Впрочем, рукопись «Маяка» автор отправил в издательство за месяц до своей смерти: 25 февраля 1905 года. Луи-Жюль Этцель полагал, что имеет полное право печатать присланный роман в том виде, в каком получил его от автора. Однако Мишель, сын прославленного писателя, воспротивился публикации. Формально он, по завещанию отца, стал наследником всех прав на неопубликованные произведения Ж. Верна, и издателю нужно было его согласие. Л.-Ж. Этцель возражал: автор передал ему рукопись, значит, считал роман законченным. Начался длительный спор, в который вмешались адвокаты обеих сторон. В конце концов в июле 1905 года стороны пошли на взаимные уступки: издатель согласился прислать Мишелю оттиски набора, а молодой Верн удовлетворился внесением в рукопись поправок в целях «улучшения» и оживления текста. Сыну писателя пришлось также согласиться с крайне малым сроком для внесения своей правки. 15 августа первые главы «Маяка» должны были появиться в новом номере этцелевского «Воспитательного и развлекательного журнала», что практически не оставляло Мишелю времени для капитальной переработки романа. Тем не менее за какие-то полтора месяца он проделал достаточно объемную работу, буквально переворошив отцовский текст. Большинство его исправлений касалось упрощения оригинала. Какая-то часть работы была, безусловно нужной. Эго касается, например, проверки географических названий или приведения в соответствие дат. Вместе с тем сын безжалостно сократил описания, нарушив внутренний ритм верновских фраз, уменьшил количество специфических парусных терминов (к слову сказать, уже непонятных большинству читателей), упростил описания судовых маневров и т.д. Кроме того, он ввел в одну из заключительных глав добавочный эпизод: пытаясь помешать уходу шхуны с разбойниками, Васкес, главный герой романа, предпринимает попытку взорвать руль судна, но только повреждает его. Устранение повреждения тем не менее препятствует отпльтию шхуны и в конечном итоге помогает задержать ее прибывшему аргентинскому военному кораблю. Были и другие изменения: убежденный атеист Мишель, например, исключил из отцовского текста всякие упоминания о Боге — даже если это были привычные для моряков тех времен обращения за помощью к сверхъестественным силам.
В целом, как полагают французские литературоведы, «Маяк на краю Света», несмотря на столь незначительную правку, утратил многое из своего первоначального очарования: в частности, потерялись точные верновские описания природы и мореходных ситуаций, потускнел приглаженный неловкой рукой мягкий верновский юмор. Правда, большинство этих изменений в полной мере оценить могут только читатели, знакомящиеся с французским оригиналом романа. В переводе, к сожалению, порой теряются и верновская стилистика, и своеобразный ритм фразы, и тонкости авторского языка. Это, впрочем, относится практически ко всем переводам верновских произведений на русский язык. Почему так происходит? Да потому что более века к Верну относились прежде всего как к писателю-популяризатору, способному выдумать занимательную интригу и окружить главную сюжетную линию массой научных, да и практических, сведений. Иногда верновские идеи могли подвигнуть подлинных ученых на разработку новаторских теорий или способствовать претворению в жизнь технических открытий. Но в большую литературу Ж. Верна не пускали. Его кандидатуру столько раз отвергали на выборах во Французскую академию — высшее литературное сообщество Франции, — что в конце своей жизни в интервью с американским журналистом Р. Шерардом писатель грустно заметил: «Больше всего в жизни я сожалею о том, что так и не занял достойного места во французской литературе» [1]. (Напомню в скобках, что Французская академия была как раз создана для объединения в своем лоне лучших французских поэтов, прозаиков, эссеистов, критиков и филологов, тогда как высшей научной организацией Франции была Парижская академия наук.)
Именно поэтому и сын писателя посчитал отцовские произведения в значительной степени старомодными и даже устаревшими, а значит, не испытывал никаких угрызений совести, переделывая их.
Публикация подлинных верновских текстов (сначала оригиналов «посмертных» романов, приобретенных городом Нантом, позднее романа «Париж в ХХ веке» и переписки Жюля Верна с его издателем Пьером Жюлем Этцелем, раскрывшей характер и объем этцелевских изменений в романах знаменитого писателя) позволила говорить о Верне не только как о зачинателе жанра научно-приключенческой литературы, но и как о зрелом литературном мастере, достойном самого высокого места в писательской иерархии. Последнее, кстати, в какой-то мере подтверждается не угасающим во всем мире интересом к произведениям почтенного мэтра, слишком поверхностно отнесенным только к детско-юношеской литературе. И в наши дни Жюль Верн является самым издаваемым из французских писателей. Думается, что переводы подлинных «посмертных» романов будут с интересом встречены не только поклонниками Верна, но и широкой читательской аудиторией. Несмотря на столетие, минувшее со дня смерти Верна, он во многом остается современным писателем. Это касается прежде всего содержащихся в его книгах идей — не столько научно-технических, сколько в области социологии, морали, экологии, философии — общечеловеческих, одним словом. Именно в них заключается непреходящая ценность романов «амьенского затворника».