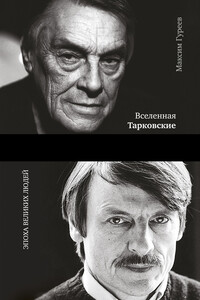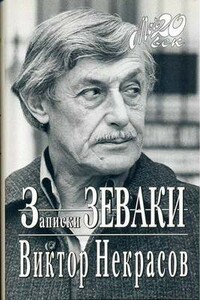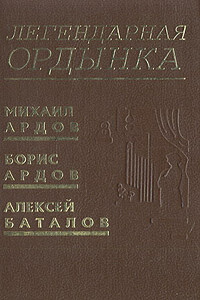Хорошо тем, кто набрался еще в молодости ума и терпения, чтобы вести дневник. Я дневника никогда не вел и теперь завидую тем, кто может заглядывать в эти заветные тетради. Я безусловно в проигрыше. Вести или не вести дневник об этом и спорить не стоит. Но все-таки и у нас, людей без дневника, есть свой шанс. Шанс этот — творческие качества человеческой памяти, ведь она, память человека, и тем более память художника, устроена особенным образом. Многое хранит она в подземелье своего подсознания. Чтобы она пробудилась, необходим только достаточно сильный, достаточно яркий толчок.
Михаил Ардов — автор замечательных книг, широко известных и много читаемых, он давно стал для меня одним из лучших прозаиков моего поколения. Судьба была благосклонна к нему. Он вырос рядом с Анной Андреевной Ахматовой. Он запомнил и воспроизвел в своей прозе многое из быта и бытия великого поэта и великого человека. И вместе с тем Ахматова не стала его мономанией. Те, кто читал «Легендарную Ордынку» («Новый мир», 1994, № 4 — 5) и «Цистерну», надеюсь я, согласятся с этим. Память у Ардова исключительная, но вместе с тем это творческая память. Я бы сказал, что это не арифметика, а высшая математика памяти.
«Записные книжки» Ахматовой, вышедшие этим летом в Италии по-русски, запустили таинственный механизм Мнемозины. В мифологии древних греков Мнемозина — богиня памяти. От Зевса она родила девять муз, девять камен, на которых и зиждется искусство.
Надо отметить, что Ардов — истинный художник, замечательный стилист. Он правильно поступил, сделав свою работу дискретной. Он разбил свое повествование на микроновеллы, которые и соответствуют вспышкам творческой памяти художника.
В ноябре 1993 года я прожил полторы недели вместе с Иосифом Бродским в Венеции. Это было наше последнее свидание. За исключением сна, мы почти все время были вместе. И вот я вспоминаю знаменитое старейшее кафе Венеции «Флориан», расположенное на Пьяццетте, напротив собора Сан-Марко. На столике кофе, минеральная вода, разумные рюмки с алкоголем. Разговор зашел о книгах, посвященных Ахматовой.
— Лучшее пока что — это то, что написал Миша, — сказал Иосиф.
— Ты имеешь в виду «Легендарную Ордынку»? — спросил я.
— Конечно.
Мне остается добавить, что я думаю точно так же.
>Евгений Рейн
В начале лета 1997 года со мною произошло чудо. Я получил толстую книгу в белой бумажной обложке, на которой значится: «Записные книжки Анны Ахматовой (1958 — 1966)» (Москва — Torino, 1996).
Не успел я раскрыть этот объемистый том, как в памяти с необычайной ясностью всплыла такая сценка. Ахматова сидит в нашей столовой на Ордынке, перед нею раскрытая книга. На переплете надпись — «Тысяча и одна ночь», но типографского текста там нет. Анна Андреевна записывает имена людей, которые придут к ней сегодня. А над этим списком — стихотворные строки и еще какие-то записи. Я говорю:
— До чего же сложную работу вы даете будущим исследователям. У вас тут стихи, телефонные номера, даты, имена, адреса… Кто же сможет в этом разобраться?..
Ахматова поднимает голову, смотрит на меня серьезно и внимательно, а затем произносит:
— Это будет называться «Труды и дни».
С того памятного мне разговора протекло тридцать с лишним лет. И вот теперь все, что содержится в объемистой тетради «Тысяча и одна ночь» и во всех прочих записных книжках Ахматовой, вышло из печати.
В одной из них я обнаружил такое суждение:
«Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя: 20 % мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в [сериозные] почтенные литературоведческие работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать»
(стр. 555).
Пока я читал записные книжки Ахматовой, память то и дело вырывала из мрака фразы, слова, целые сценки, истории… Вспышки того самого «прожектора» следовали одна за другой, ибо записи делались в конце пятидесятых и в шестидесятые годы. А я тогда был уже взрослым, почти сложившимся человеком и, разумеется, вполне понимал, кто такая Анна Ахматова и что такое ее стихи…
Нечто подобное в свое время испытала и сама Анна Андреевна, это было осенью 1965 года:
«Записная книжка Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы. А я с Н. В. Недоброво с ужасом глядим на это невиданное зрелище, и у этого дня даже есть дата…»
(стр. 672).
То, что я ощутил при чтении записных книжек Ахматовой, не могу назвать «подарками мелкими», ибо через тридцать с лишним лет я вдруг мысленно вернулся домой, на нашу «Легендарную Ордынку», в круг когда-то близких и все еще дорогих мне людей.
«Анненский об Инне и обо мне»
(стр. 14).
Это — история уже известная. Брат снохи Иннокентия Федоровича С. В. Штейн женился на старшей сестре Ахматовой — Инне. Узнав об этом браке, поэт сказал: