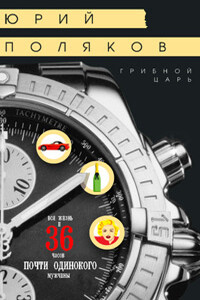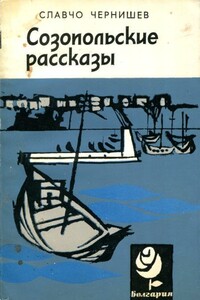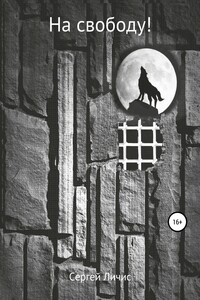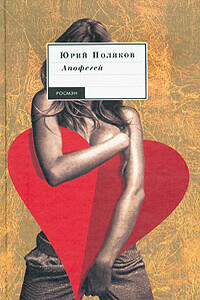Саша Калязин, совсем даже неплохо сохранившийся для своих сорока пяти лет, высокий интересный мужчина, был безукоризненно счастлив. Напевая себе под нос «Желтую субмарину», он торопливо и неумело готовил завтрак, чтобы отнести его прямо в постель любимой женщине. Прошло три недели, как он ушел от жены и обитал на квартире приятеля-журналиста, уехавшего в Чечню по заданию редакции. За это время жилплощадь, светившаяся прежде дотошной чистотой и опрятностью, какую могут поддерживать только застарелые холостяки, превратилась в живописную свалку отходов Сашиной бурной жизнедеятельности. Немытые тарелки возвышались в мойке, накренившись, как Пизанская башня, а в ванной вырос холм из нестираных калязинских сорочек. Брюки, в которых он ходил на работу в издательство, после отчаянной глажки имели теперь две стрелки на одной штанине и три на другой. Кроме того, кончались деньги: любовь не считает рублей, как юность не считает дней… Но все это было сущей ерундой по сравнению с тем, что теперь он мог засыпать и просыпаться вместе с Инной.
Калязин зубами сорвал неподатливые шкурки с толсто нарезанных кружочков копченой колбасы, нагромоздил тарелки, чашки, кофейник на поднос и двинулся в спальню, повиливая бедрами, как рекламный лакей, несущий кофе «Голдспун» в опочивальню государыне-императрице. К Сашиному огорчению, Инны в постели не оказалось, а из ванной доносился шум льющейся воды. Калязин устроил поднос на журнальном столике, присел на краешек разложенного дивана, потом не удержался и уткнулся лицом в сбитую простынь. Постель была пропитана острым ароматом ее тела, буквально сводившим Сашу с ума и подвигавшим все эти ночи на такие мужские рекорды, о каких еще недавно он и помыслить не мог. Томясь ожиданием, он включил приемник, но, услышав заунывное философическое дребезжание Гребенщикова, тут же выключил.
Наконец появилась Инна — в одних хозяйских шлепанцах, отороченных черной цигейкой. Саша, как завороженный, уставился сначала на меховые тапочки, потом взгляд медленно заскользил по точечным загорелым ногам и потерялся в Малом Бермудском треугольнике. Инна любила ходить по квартире голой, гордо, даже чуть надменно делясь с восхищенным Калязиным своей идеальной двадцатипятилетней наготой. При этом на ее красивом, смуглом лице присутствовало выражение совершеннейшей скромницы и недотроги. Саша ощутил, как сердце тяжко забилось возле самого горла, вскочил, сгреб в охапку влажное тело и опрокинул на скрипучий диван.
— Подожди, — прошептала она. — Я хочу нас видеть…
Он понятливо потянулся к старенькому шифоньеру и распахнул дверцу. На внутренней стороне створки — как это делалось в давние годы — было укреплено узкое зеркало, отразившее его перекошенное счастьем лицо и ее ожидающую плоть.
…Потом лежа завтракали.
— В ванной полно грязных рубашек, — сказала она.
— Да, хорошо бы постирать… — согласился он.
— Конечно! Но сначала надо их обязательно замочить, а воротники и манжеты натереть порошком…
— Натереть?
— Да, натереть. А ты не знал? Показать?
— Нет, Инночка, я сам…
— Ах, ты мой самостоятельный, все сам… Все сам! — она засмеялась и нежно укусила его за ухо.
— Нет, не все…
— А что — не сам?
— Да есть, знаешь, одна вещь, даже вещица… — загнусил он и почувствовал, как только-только улегшееся сердце снова подбирается к горлу.
— Ну, Саш, ну не надо… Опоздаем на работу!
— Не опоздаем!!
…Потом одевались. Этот неторопливый процесс сокрытия наготы, этот стриптиз наоборот, начинавшийся с ажурных трусиков и заканчивавшийся строгим офисным брючным костюмом, неизменно вызывал у Калязина священный трепет. Нечто подобное, наверное, испытывали первобытные люди, наблюдавшие, как солнце, сгорая, исчезает за горизонтом. А вдруг навсегда?
…Он высадил Инну за квартал до издательства, а сам, чтобы не вызывать ненужных ухмылок сослуживцев, все прекрасно понимавших, поехал заправляться. Наполнив бак, Саша хотел заодно подрегулировать карбюратор в сервисе рядом с бензоколонкой, но потом передумал. Зачем? На днях он должен был отдать машину своему недавно женившемуся сыну. Так они условились с Татьяной.
На решающий разговор с женой Калязин отважился три недели назад, убедив себя в том, что дальше так продолжаться не может. Полгода Саша, наоборот, был вполне доволен тем, что делит жизнь между двумя женщинами. А что еще нужно? Дома — Татьяна, привычная и надежная, как старый, в прошлом веке подаренный к свадьбе кухонный комбайн, а на службе — отдохновенная Инна. В любой момент можно было приоткрыть дверь в приемную и увидеть ее — деловитую, недоступную, прекрасную… Или даже подойти и спросить: «Инна Феликсовна, „Будни одалисок“ ушли в типографию?» И получить ответ: «Конечно, Александр Михайлович, еще вчера…» И успеть заглянуть в ее глаза, темные, невозмутимые, лишь на мгновенье — специально для него — вспыхивающие тайной нежностью. И тогда весь рабочий день, наполненный верстками, сверками, сигнальными экземплярами, занудными авторами, превращался в томительно-трепетное ожидание того момента, когда она, выйдя из издательства и прошмыгнув квартал, сядет в его конспиративно затаившуюся во дворике «девятку» и скажет: «Ну вот и я…» Скажет так, точно они не виделись вечность.