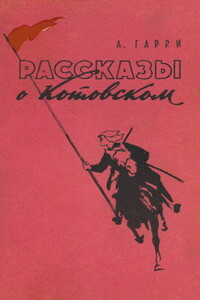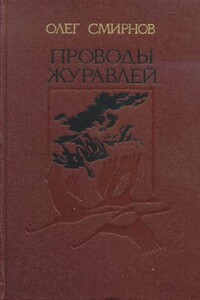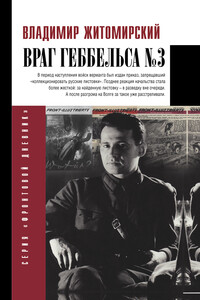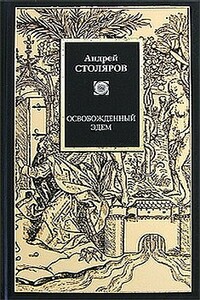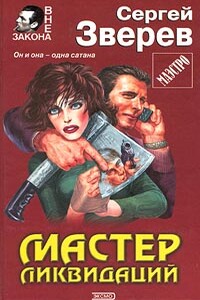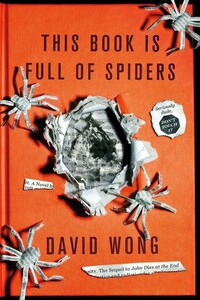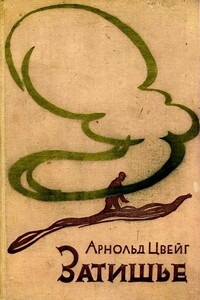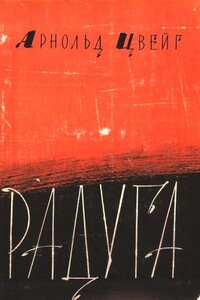Арнольд Цвейг
В ЛЕСАХ
Глава первая ЗАКРЫТЬ ВОДУ!
Земля — испещренный желто-зелеными пятнами, пропитанный кровью диск, над которым, как мышеловка, опрокинулось неумолимое голубое небо — словно для того, чтобы человечество не ускользнуло от мук, порожденных его собственной звериной природой.
Бои идут с середины мая. Вот и теперь, в середине июля, орудия еще продолжают крошить лощину между селением Флери и фортом Сувиль. То тут, то там прокатываются валы взрывов; удушливый дым, облака пыли, вихри размолотой в порошок земли, взвивающиеся обломки камня и кирпича застилают воздух. Легионы остроконечных пуль со свистом пронизывают пространство, крупные и мелкие стальные осколки неустанно рассекают его. По ночам над передовыми позициями стоит пламя и гул от рвущихся снарядов; днем синева словно дрожит от треска пулеметов, грохота ручных гранат, воя и визга обезумевших людей. Вновь и вновь летний ветер взвивает пыль атак;-он осушает пот бойцов, выползающих с оцепенелым взглядом и оскаленными челюстями из своих укрытий; глумясь, относит он в сторону вопли раненых, последний вздох умирающих.
С конца февраля ведут здесь наступление немцы. Война „между европейцами, свирепствующая уже два года, началась на юго-востоке континента, однако главную тяжесть ее бедствий несет Франция — ее народ, ее территория, ее армия; и хотя как раз теперь идут кровопролитные сражения в Буковине, на реках Эч и Изонцо, все же с особым ожесточением бьются на берегах двух французских рек — Соммы и Мааса. По обе стороны Мааса идут бои за крепость Верден.
Отряд пленных французов шагает под конвоем баварских пехотинцев по дороге, ведущей от бывшей деревни Азанн к еще уцелевшему вокзалу в Муаре. Невесело шагать между примкнутыми штыками, невесело итти в плен к противнику, доказавшему при вторжении в Бельгию и Францию, что он ни во что не ставит человеческие жизни — ни свои, ни чужие. В Германии голодают — это известно всему миру; в Германии бесчеловечно обращаются с пленными, попирая законы цивилизации, — так пишут во всех газетах. Как подумаешь, что пришлось попасть в руки немцев как раз теперь, к шапо-чному разбору, перед полным провалом их здешней авантюры, когда они трясутся от страха под напором франко-английских атак на Сомме. Хотя и удалось унести ноги из этого адского пекла, и, если вести себя разумно, можно будет, вероятно, выдержать несколько месяцев плена, все же омерзительно, что тебя гонят, как скот. Позади остаются овраги, пространства, где прежде стояли леса, а ныне тянутся сплошные искромсанные снарядами пустоши; позади — высоты Мааса, спуск к Азанн; здесь еще уцелевшая земля; внизу, направо, протекает ручей, высятся горы, круглые зеленые вершины — привычный лотарингский ландшафт. Хоть бы на водопой повели, что ли! Жара, пот и пыль терзают эти сорок — пятьдесят рядов марширующих солдат в серо-голубых мундирах, стальных шлемах и остроконечных шапках.
На левой стороне дороги, за поворотом, манят к себе два больших бака, в каждый из них бежит струя чистой воды. Немецкие нестроевые солдаты моют там свои котелки. Французы поднимают головы, подтягиваются, ускоряют шаг; ведь и баварцы-конвоиры знают, что такое жажда, — они дадут пленным напиться или наполнить походные фляги. В конце концов солдаты обеих армий — лютые враги только в бою; кроме того, среди французов давно уже поговаривают, что немецкие нестроевые солдаты — это безоружные рабочие, ландштурмисты старших и младших призывов, безобидный народ.
Над пыльной дорогой возвышаются длинные черные, на фоне голубого неба, лагерные бараки; от них идут ступеньки вниз. Сюда сбегаются солдаты; их привлекает зрелище, к тому же сейчас обеденный перерыв. Ну что ж, чем больше рук, тем скорее напоят их всех. В одно мгновение серо-голубая толпа истомленных жаждой людей окружает баки; загорелые, бородатые лица тянутся к воде: десятки рук с кружками и котелками, а то и попросту губы погружаются в прозрачную воду, которая играет на дне баков. Как приятна, как вкусна французская вода, когда в последний раз перед долгой разлукой смачиваешь ею пересохшее горло! Немецкие солдаты сразу соображают, в чем дело. G готовностью рассыпаются они с наполненными водой котелками вдоль эшелона пленных; германский алюминий мирно постукивает о французскую жесть, белые и светло-серые тиковые куртки окружают темные суконные мундиры.
— Шевелись! — кричит унтер-офицер, командир взвода. — Вперед!
Остановка не была принята в расчет, но командир не очень настаивает, никто не торопится в свою часть, на передовую, особенно если эта часть занимает резервные позиции вблизи Дуомона. Утолившие жажду медленно отходят от колодца, обтирают бороды, с которых каплет вода, и вновь выстраиваются посреди улицы. Глаза у них блестят. Два года войны выработали между фронтовиками — французами и немцами — известное уважение, даже симпатию друг к другу. Только в тылу, начиная уже с эвакуационных пунктов, люди разжигают ненависть и вражду, чтобы замаскировать утомление войной, охватывающее народы.
Нестроевой солдат, которого издалека можно отличить по ярко-черной растительности на подбородке и щеках, — его зовут Бертин, — радостно наблюдает, как унтер-офицер его части, Кардэ, книгопродавец из Лейпцига, предлагает конвоиру-баварцу сигару, подносит зажигалку и беседует с ним на саксонском диалекте. Бертин пробирается через толпу и, бросив на ходу несколько слов двум нестроевым, Палю и Лебейдэ, тащит воду к самому хвосту эшелона. Там люди тщетно пытаются оттеснить в сторону сгрудившихся впереди. Как стадо загнанных животных чужой, но все же знакомой-породы, они вытягивают шеи из расстегнутых воротников, выпрашивая воду и перебраниваясь на своем гортанном говоре. Благодарным взглядом они приветствуют троих солдат, что пришли помочь.