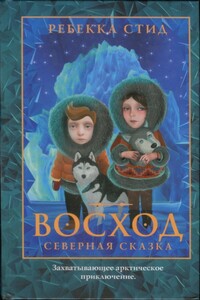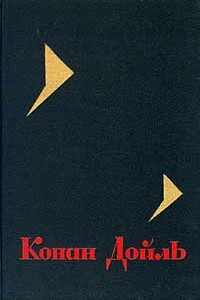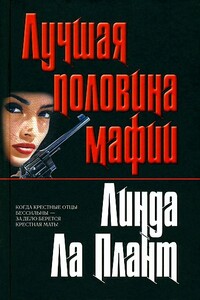Грэйсхоуп
Большинство ребят его возраста никогда не держали в руках настоящей бумаги — ее осталось слишком мало. Бумагу берегли для рисования и важных документов. Еще до того как впервые встать на коньки, Маттиас твердо знал — если он замнет уголок страницы или испортит лист бумаги, его серьезно накажут. Но он не мог противостоять соблазну похозяйничать за маминым письменным столом. Маттиасу нравилось все, что в нем было: и бесшумно открывающиеся ящики с полками, и яркие баночки с красками, и вымытые кисточки на подставке, и деревянный ящичек с углем. Хотя во всем остальном Маттиас производил впечатление послушного мальчика, стоило его оставить без присмотра, как он тут же приступал к исследованию стола. Он знал каждый его сантиметр наизусть и даже помнил, с какой стороны на стенке одного из ящиков лучше видно черную кляксу, оставленную задолго до его рождения. И всякий раз, подходя к столу, Маттиас думал о том, что клякса, как и всегда, на том же самом месте.
Но сегодня его ожидало нечто новое.
На столе под набросками маминых рисунков лежал плотный белый конверт, еще не запечатанный. Хорошенько запомнив, на какую длину была примотана нитка конверта, Маттиас аккуратно отмотал ее и раскрыл конверт. Внутри оказался странный бумажный прямоугольник с цветным изображением. Ничего подобного Маттиас в жизни не видел — будто некто остановил время и перенес саму жизнь на бумагу, сохранив каждую мелочь. Даже его мама, признанная лучшей из художниц современности, не могла бы создать и бледной копии этого чуда. Аккуратно держа за уголки, Маттиас повертел загадочную картинку в руках. Это был портрет двух женщин. «Наверное, сестры» — подумал он. За их фигурами виднелось кое-что еще — сияющее пятно.
Солнце.
Нью-Йорк
Семь лет спустя
Закрыв глаза рукой, Питер лежал в кровати и размышлял о том, что невозможно понять весь ужас головной боли, хотя бы раз не испытав ее на себе в полной мере. Человеку, никогда не страдавшему мигренью, не описать ее словами. Он перевернулся на другой бок и взял небольшой блокнот на спирали с прикроватного столика.
Маму Питера всю жизнь время от времени мучили головные боли. Иногда они продолжались сутками, и тогда она неподвижно сидела в красном кресле возле дивана. Она не ела, не смеялась и не пыталась приготовить им «нормальный ужин», который в другие дни непременно ждал их каждый вечер. Мама вообще не вставала. «Снова покинула нас, — говаривал папа, — но непременно вернется». Подобное происходило пару раз в год.
Питер был очень похож на маму — это отмечали все. У обоих молочно-белая бледная кожа, усыпанная веснушками, волнистые волосы (темные у нее и светлые, папины, у него). Даже чихали они одинаково (всегда дважды), как и смеялись (очень тихо после первого, похожего на короткий лай, смешка). Поэтому Питер резонно предполагал, что когда-нибудь у него, как и у мамы, начнет болеть голова.
Питер рассеянно перелистывал замусоленный блокнот. В нем он записывал телефоны друзей и названия видеоигр, которые хотелось бы купить, на случай, если папа с мамой вдруг согласятся. Там же хранился адрес небольшой фирмы из Орегона, где задешево продавали детали от старых радиоприемников и множество других полезных вещей. Он открыл последнюю страницу, где тянулся длинный ряд черточек, и пририсовал к ним еще одну.
После двенадцатого дня рождения мама впервые спросила Питера, не болит ли у него голова. Раньше она ни о чем подобном не говорила с ним, и он никак не мог избавиться от мысли, что все это выглядит как-то странно. Зачем понадобилось вообще об этом спрашивать: разве, когда у него заболит голова, это не будет очевидно? Ведь тогда он тоже сядет в кресло и ему не захочется улыбаться или съесть хотя бы ложку супа. Но мама осторожно продолжала спрашивать об этом каждую неделю или две, словно ожидая плохих вестей. И они ждали вместе.
Впервые голова заболела несколько месяцев спустя. Питер сразу же понял, что происходит, хотя его мигрень оказалась не очень-то похожей на мамину. Во-первых, приступ длился всего несколько часов, а не целый день. Во-вторых, несмотря на боль, после школы он как всегда захотел съесть своих любимых чипсов с солью и уксусом. И в-третьих, он не стал рассказывать об этом маме.
Но Майлзу — рассказал. Они вместе ходили в детский сад, потом — в школу и знали друг о друге все. Питер, например, знал, что Майлз только притворяется, что ненавидит двух своих сводных сестренок, живущих вместе с папой и его новой женой на окраине города. На самом деле он их любил и ему нравилось проводить с ними вечера по пятницам и понедельникам. Ему нравился вечный гомон в квартире, нравилось, что там всегда полно гостей, нравилось, что они прикалываются друг над другом за ужином и вместе смотрят телевизор, хрустя попкорном и заедая апельсинами.
А Майлз знал, что Питер боится рассказывать маме о своем первом приступе головной боли: ведь она подтвердила его главную догадку. Мамина мигрень представляла собой нечто особенное, о чем она не хотела рассказывать. Возможно — какое-то ее горе.
Приступ повторился с новой силой. Питер вытащил карандаш из спирали блокнота и пририсовал еще одну черточку. Затем стал медленно считать про себя.