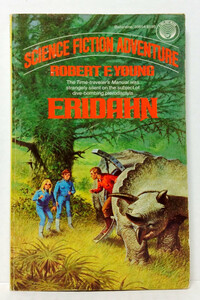Перевод Сергей Гонтарев
Не знаю, что показалось мне более неправдоподобным — девушка или ее картина. Из всех художников на уличной выставке только у нее был один холст. Она стояла рядом, и вид у нее был такой, словно она боялась, что кто-нибудь остановится полюбоваться картиной… или что никто не остановится. Немного похожа на ребенка — странные голубые глаза, солнечные волосы, золотистый локон, которым играл легкий апрельский ветерок. Прелестное недокормленное дитя, изображающее из себя взрослого, в синем балахоне и дурацком берете из тех, что носят художники.
Что до картины… Представьте себе широкий луг между лавандовыми холмами. По нему рассыпьте пригоршню мелких водоемов и щедро разбавьте их звездами. Подняв взгляд, вы увидите линию экзотических гор, увенчанных сверкающим снегом. А над ними небо, густо усыпанное звездами: синими, белыми, красными, желтыми. Звезд так много, что они не оставляют места для черноты.
И название под стать: «Луговые озера при свете звезд».
— Скажите… вы действительно видите? Я имею в виду звезды.
Я и не заметил, что остановился. Вообще-то живопись — не мой конек. Единственная причина, по которой я оказался здесь, — мой клиент. Уличная выставка как раз на полпути от стоянки, где я оставил машину, до его офиса.
— Разумеется, вижу, — кивнул я.
Глаза у нее загорелись — наверное, таких сияющих глаз я еще не видел.
— И луг… и озера?
— И горы. Или ты думаешь, я слепой?
— Очень многие слепы. Особенно производители подсвечников.
— Подсвечников? Их давно не производят.
— Возможно. Но эти люди все еще думают как производители подсвечников. И видят, как они. Мясники и булочники не столь безнадежны. Они хоть что-то способны увидеть. А производители подсвечников не видят ничего.
Я уставился на нее. Ее подкупающе открытое лицо портил чересчур серьезный взгляд.
— Не буду спорить, — сказал я наконец. — Мне пора идти.
— Моя картина… она вам понравилась?
В ее словах и глазах сквозило отчаяние, Отчаяние и что-то еще… возможно, лукавство?
— Боюсь, что нет, — сказал я. — Скорее, немного напугала.
Ресницы ее дрогнули — как будто быстрые облака пронеслись по чистому небу.
— Это нормально, — сказала она. — Только, пожалуйста, не говорите, что вам жаль.
Именно это я и собирался сказать. Она меня опередила. Какое-то время я стоял, мучаясь вопросом, что делать дальше. По какой-то необъяснимой причине мне казалось, что я упускаю какой-то важный момент. Не замечаю его, как последний олух, не понимаю его сути и упускаю. Коснувшись, наконец, края шляпы, я пробормотал «Всего хорошего» и пошагал прочь.
Утро выдалось бесконечно долгое и неплодотворное. Мое красноречие куда-то улетучились. Двух первых клиентов удалось раскрутить только на стандартный заказ.
Третьего — вообще ни на что. И я знал, в чем дело…
Проклятая картина!
Куда я ни смотрел, везде видел одно и то же: луг, озерца, звезды. Сознание добавило оригиналу деталей: теперь по лугу шла девушка с впалыми щеками и невозможно-голубыми глазами. Эфемерная девушка в огромном, не по размеру, балахоне художника. Одна под невероятным бескрайним небом…
В полдень я встретился с Милдред. Мы пообедали в хорошем ресторане, известном только избранным. Милдред — девушка, на которой я собираюсь жениться. Она из прекрасной семьи. Ее отец — известный производитель шнурков для обуви. Он уже несколько раз предлагал мне место у себя в отделе продаж, он с радостью возьмет меня, стоит мне только заикнуться. Поскольку упомянутая им зарплата намного превышает мой нынешний доход, очень скоро я заикнусь.
Не сомневаюсь, с Милдред мы заживем душа в душу. Купим в пригороде дом в стиле ранчо, заведем детей. Засадим все вокруг туей, можжевельником и карликовой сосной. По вечерам летом будем жарить во дворе барбекю или кататься по городу на машине. А зимними вечерами смотреть телевизор или ходить в кино на свежие фильмы. Возможно, меня примут в местную масонскую ложу, а Милдред станет членом Ордена Восточной Звезды[1]. Не сомневаюсь, мы будем счастливы. Возможно, с годами наша жизнь поскучнеет. Но счастье — это не что-то, что летает по ночам или является к тебе во двор раз в вечность. Счастье — это дом, новая машина, чувство взаимной поддержки. Это пенсионный чек, страховой аннуитет, облигация серии «Е»…
Или что-то вроде этого, говорю я себе.
Повторяю это снова и снова…
За обедом Милдред, как всегда, держалась с достоинством, говорила соответствующие моменту фразы. Я думал, что я тоже в своем репертуаре. Но, когда я оплачивал счет, Милдред многозначительно взглянула на меня из-под своих выгнутых бровей и спросила:
— В чем дело, Хол? Ты чем-то встревожен.
Я собрался рассказать ей о картине, но потом решил, что это будет пустая трата времени. Не то чтобы Милдред глуповата или ограничена. Но я не могу ожидать, что она поймет то, чего не понимаю я сам. Кроме того, упоминание о картине повлечет за собой упоминание о девушке. А мысль о том, что она подвергнется неизбежному критическому разбору Милдред, была мне неприятна.
Поэтому я сказал:
— Просто понедельник. Тяжелый день.
— Тяжелый — не то слово, — сказала она, не объяснив, что имеет в виду.