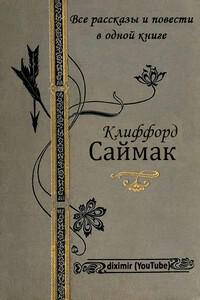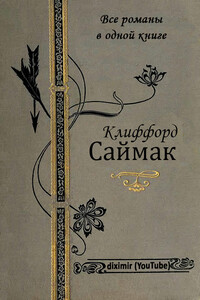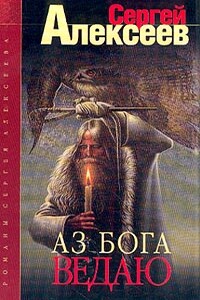Ловчие иноки много ночей с табуном жили, спали с лошадьми, в бане не мылись, и так пропитались потом, что за версту разило. С сумерками ещё и навозом натирались, дабы окончательно отшибить запах человеческий, и всё одно волк людей вынюхивал. Порыщет около, попугает из призрачной белёсой тьмы, встревожит табун, вынудит сбиться в плотный круг, защищая молодняк. И так до восхода куражится, стервец, не даёт кормиться!
Сеголетков зверь не трогал, к жеребцам и близко не подходил, невзирая на их стать; норовил кобылиц отбить, угнать, причём молодых и справных. Ровно толк знал в лошадях, и не резал, не рвал мяса, крови не вкушал, чтоб насытить утробу, — будто для неких иных нужд похищал!
Было чему дивиться.
Сколько раз потом ходили следом, лес прочёсывали частым гребнем, выстроенным из послухов и черноризников. Ни кобылиц, ни следов пиршества, ни матёрого, ни логова! Будто из–под земли является разбойный зверь и туда же уходит вкупе с добычей. Пока стерегут, близко не подойдёт, круги нарезает поодаль, но стоит на ночь без караула оставить либо стража заснёт, тут непременно и выскочит, сатана. И опять за ночь одной–двух молодок недосчитаешься. Эдак–то весь монастырский табун изведёт!
Думали уж, блазнится пастухам и не волк это — радонежские разбойные люди шалят либо ордынцы, прибегая из своих баскачьих становищ. Хаживали к тем и другим, по уговору в полях и дворах всех коней озрели, на дальних и ближних торжищах приглядывались, на дорогах перехватывали — ни единой кобылки не сыскали. А у монастырских лошадей шеи, таврённые косым крестом, знака не вывести, да и породы не спрятать, всего–то две масти — гнедые да соловые.
Ровно в преисподнюю сводят коней!
Игумен Сергий уж самых дошлых ловцов посылал в надзор. Иноки засидки устраивали на подступах, живым поросёнком заманивали, на волчьей тропе даже ловчую яму копали, да всё ему нипочём. Будто потешается шалый зверь над божьими людьми! И вот тогда настоятель Троицкой пустыни отнял от важного ремесла на дору мужающего гоношу Кудреватого, велел пойти в ночное и низвести озорного конокрада. Невзирая на молодость, отрок не только в ратном деле преуспел; в ловчем промысле сведомым слыл, ибо с детства впитал отеческое ремесло. Добыть матёрого ему по нраву и славе бы пришлось.
— Добро, отче! — вдохновился и не сдержал хвастовства гоноша. — Тебе его как доставить? Шкуру или живого да сострунённого?
— Да хоть в шкуре, хоть без, — не внял бахвальству Сергий. — Токмо гляди, свою побереги. Для иного дела сгодится.
Кудреватый в Радонеж сбегал, там отыскал на хозяйских дворах матёрую суку в охоте, испросил милости:
— Не баловства ради, пользы для! Прости, Боже!
Поймал собаку, течкой сапоги намазал, после чего на палку их и через плечо, да в ночь, босым на монастырское пастбище. Стражников в обитель отослал, один с табуном остался и при себе только кнут о трёх колен, петли верёвочные да засапожник малый. Обулся, по–волчьи нарыскал окрест поля, заячью сметку сделал и у своего следа затаился. Дошлый сын ловчего ведал: гон у волков в феврале, однако зверь охочую суку в любое время не упустит, непременно нюхом возьмёт, настигнет и не побрезгует огулять.
До рассвета табун пасся преспокойно, а тут забрезжило, и кони запрядали ушами, заржали тревожно. Сбились в круг, жеребцы задом к супротивнику встали, дабы зверя отлягнуть, кобылицы с молодняком внутри сгрудились.
Знать, где–то поблизости конокрад, взял сучью течку и теперь тропит отрока.
Гоноша изготовился и видит: матёрый не польстился! Не по следу пошёл — поперёк его, и на махах да прямо в табун. Ни одним копытом не зацепило лешего, между ног сквозанул. Лошади порскнули в стороны, разорвали оборону, и волк прыжком к заранее высмотренной кобылице. Та со страху в самую гущу, крик, ор, переполох в конском племени! Иных не трогает, а её гоняет по кругу, ровно пастух, то ли забавляется и куражится так, то ли азартом себя распаляет. Отрок уж думал, сейчас зверь нарушит свой свычай, сделает хватку, вырвет клок из промежности, и рухнет раненая молодка. Но матёрый порезвился да заскочил ей на спину! В гриву клыками вцепился, и кобылица понесла серого наездника.
Сведомый волчатник на минуту оторопел от эдакой прыти, сразу и опамятоваться не смог, про осёдланного коня забыл, да отважный, с кнутом в середину табуна пешим ринулся.
— Выходи супротив! Силой померяемся!
И опоздал. В рассветном тумане лишь конский хвост мелькнул, распущенный по ветру, — верхом ускакал разбойный зверь.
Тут послышался отроку хохот. Громогласный, надменный, торжествующий, истинно человеческий! Ровно над ловцом потешался серый конокрад.
Гоноша, однако же, пришёл в себя, прыгнул в седло и на резвом жеребце ему вослед. И настиг скоро, среди поля. Покорившаяся волку кобылица шагом шла, всадник верхом сидел, как человек. И ещё лапами передними подбоченился! Кудреватого зазнобило от страха, но и здесь не сплоховал, налетел сбоку, изловчился и стебанул верхового зверюгу кнутом. Ударом валким, по месту уязвимому, убойному — в подбрюшье. Всякого серого от подобного щелчка в крючок загибает. Тут же раз, другой: не прохватывает, хоть бы дрогнул! Кобылица больше испугалась свистящего кнута и опять в галоп. Тогда отрок в третий раз достал, уже в отчаянии — вкось, по ушам. Рукой ощутил, как влипает в плоть туго, с гранью плетённый кнут. Шкура волчья полопалась, раскроилась на ремни, затрепетала на ветру, однако и капли крови не выступило.