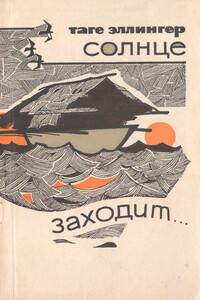![]()
«На земле нет ничего, что не могло бы быть лекарством». Это строки из «Чжуд-ши». Человека, зачерствевшего в антропоцентризме до заурядной брезгливости, эта максима тибетской медицины может повергнуть в оторопь.
Правда, таких остается все меньше. Перед лицом экологической катастрофы трудно не осознать единства природы и человека. Понимание всеобщей связи бренного и вечного, земного и космического приходит к. людям.
Странным образом древние поверья находят подтверждение в экспериментах современной науки.
Так думал я, отправляясь по заданию редакции в Улан-Удэ — центр живой буддистско-ламаистской конфессии СССР, средоточие древних памятников восточной культуры и основной полигон современных исследований тибетской медицины.
...Московская писательница, давняя моя знакомая, как-то в смятении чувств рассказывала о своем визите к «тибетскому доктору»: «Он мне только ладошку пожал и говорит: «Пошка. Пошка болит». Это ведь так и есть,— продолжала она после многозначительной паузы.— Но он-то откуда узнал? И диету предложил какую-то невообразимую! «Ешь,— говорит,— что в детстве ела. Фрукты, овощи — это только для южан хорошо. Нам, северным людям, полезна лапша, творог, баранина в бульоне...» — «Постой,— перебил я,— это же просто дежурные блюда бурятской национальной кухни. Да кто он, твой целитель?» — «Как кто? — удивилась она.— Галдан Ленхобоев, конечно».
Галдана Ленхобоева я знавал еще, когда жил в Улан-Удэ. Тогда он работал модельщиком в чугунолитейном цехе улан-удэнского завода «Электромашина». Мы посмеивались, что по вечерам он самоучкой осиливает старомонгольские книги, что каждый выходной мотается на мотоцикле по степным распадкам в поисках лекарственных трав, а каждый отпуск уходит в Саяны собирать мумие... Он считался этаким городским чудаком. Через двадцать лет к Галдану Ленхобоеву больные съезжались со всех концов страны, а в Москве у него была постоянная врачебная практика в кругу интеллигенции. С точки зрения медицинской меня это не волновало. Я был, как это пишется в справках, практически здоров. Но вдруг ясно ощутил, словно воочию увидел, что Галдан Ленхобоев сделался совсем другим человеком...
Тайна тибетской медицины виделась мне теперь не в фактах чудесных исцелений, а в повседневном мышлении ее творцов и адептов. Мне хотелось войти, как в реку, в поток древнего сознания, проникнуться им, насколько удастся, пережить, если повезет, хотя бы момент реального контакта с иным ощущением и пониманием мира. И рассказать об этом.
Созерцая обычный пейзаж Селенгинской долины, невозможно расчленить его на ЗЕМЛЮ, ВОДУ, ВОЗДУХ, ОГОНЬ и ЭФИР (космическое дыхание). Эти пять первоэлементов буддийской космогонии, которые составляют все сущее, нельзя разглядеть непросветленным взором. Их может показать только посвященный, как сделал это в гравюре «Береза на холме» Цырен-намжил Очиров.
![]()
Селенгинская долина. Взгляд путешественника и взгляд народного художника.
Этот сельский учитель из Кижингинского аймака начал рисовать, только выйдя на пенсию. Уже позади были те циклы лет, когда, как говорят на востоке, человек живет «как дитя», и «как солдат», и «как отец семейства», а впереди оставались только годы «мокша» (отрешение от бренного и соединение с вечным). Но кто имеет призвание, тот его не минует. Золотая медаль на вернисаже народных художников в Англии, золотая медаль в конкурсе самодеятельных художников на ВДНХ — отметили уровень его мастерства.
Воля случая, что работы Очирова попались мне, когда накопившиеся в поездке впечатления никак не складывались в целостное представление. Мешала скорее всего накатанная колея «европейского» мышления. Идти дальше по неведомой культурной территории без проводника-аборигена было просто безрассудно. И вот тут, как по заказу, развернулась передо мною во всей наглядности иная традиция мышления, схваченная языком графики. Сцены «Выплавка железа», «Приготовление арсы», «Выделка кожи» были нарисованы, что называется, «по преданию». Ведь художник не мог видеть, как это делалось двести-триста лет назад. Но с этнографической точки зрения рисунки были безупречны. И потому они словно втягивали в себя, в глубь традиционных житейских коллизий, в старинный фольклорный строй чувствований и переживаний. И не казалось уже странным ни свечение небес, ни одушевленность вод, ни безмятежность человеческих лиц...
Цырен-Намжил Очиров знал, в чем счастье. Он рисовал человека в лоне природы, а не «на лоне», как мы привычно говорим. Разница величиною в эпоху. От бренной радости потребления природных благ художник возвращался к спокойному слиянию с природой, к вечному первоисточнику бытия...
Самому Очирову, надо полагать, до подобных умозаключений и дела не было. Он рисовал то, что рисовал. Но, видно, и того было предостаточно, потому что вдруг, как зарница, просверкнула у меня негаданная мысль: «А если тибетская медицина не что иное, как момент непосредственной связи человека и природы, своего рода искусственный канал, восстанавливающий преждевременно разорванную пуповину?» Просверкнула... и сфокусировала внимание на том моменте, общем почти для всех систем древнего врачевания, когда целитель полной мерой своих знаний, опыта и силы духа как бы заново подключает угасающего человека к животворящему энергетическому полю вечности. Типичный пример — камлание шамана, его магический экстаз, подключаясь к которому соплеменники забывали о болях, восстанавливали спокойствие души, зоркость глаза и твердость руки.