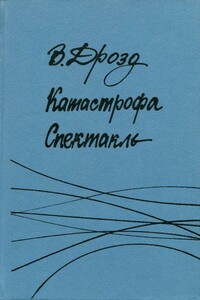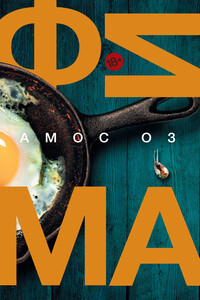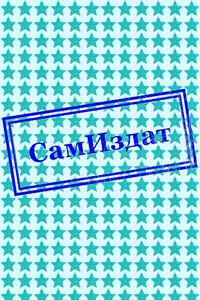Олег Павлов
Вниз по лестнице в небеса
рассказ
Звали мы его Игорьком, а для всех чужих он был Митрофаном - простая фамилия превращала его на слуху в зловещего мужика. Игорек был не намного старше нас, но больше не ходил в школу, а поэтому выглядел в наших глазах чуть ли не стариком. Хотя он и без того отличался от подростков, что льнули к его силе, храбрости, глотая с восторгом воздух опасной жизни, - а когда смеркалось или зазывно кричали из окон мамаши, разлетались по домам.
Дома никогда не ждал его готовый обед, да и ждать с обедом было некому. Отца с матерью своих он не помнил. Говорил, что родился в тюрьме. Жил он у бабки с дедом, но когда вырос, они пускали в квартиру, только если приносил бутылку водки. Завирал он для лихости, или это было правдой, но еще говорил, что все впитал в тюрьме с молоком матери и что дед приучил его пить водку с шести лет.
Пропитое, казалось, вечно неумытое лицо Игорька одеревенело от шрамов, похожее на бойцовский щит. Черные угли глаз потухли, но вдруг вспыхивали и пылали так жарко, что он увлекал за собой одним только взглядом. Рядом с ним исчезал страх. И взгляд этот не был угрожающим или властным. В нем подчиняло ровное, спокойное бесстрашие. Оно было как небольшое пламя, в котором, даже не чувствуя боли, медленно сгорал человек - или черное что-то, спрессованное в камень.
Он был вынослив и очень силен физически. Ради фокуса, чтобы поразить наше воображение, мог затушить о себя сигарету и не издать ни звука. Говорить для него было мучительно. Он молчал, как будто даже перед глазами видел все время то, что не в силах был выразить в словах. Обычно был спокоен. Чутко слушал, живо откликался на хорошее смехом, на плохое сопением и нервным звуком плевков. Или вдруг отчетливо произносил, все для себя решая: "сука", "подлюка". А если волновался и не мог уж молчать, то голос его звучал как громкий собачий лай, разве что окрашиваясь чувствами.
Он презирал бродячих собак, потому что их легко было подманить и приучить охранять любую свалку; любил птиц, но не попугайчиков или канареек, о которых мало что знал, а воробьев, голубей, ворон, что могли, когда хотели, высоко взлететь или шныряли по улицам в поисках кормежки, красиво и ловко совершая кражу каких-нибудь крошек с чужого стола, как будто подбирали дары. Только по ту сторону жизни все было для него понятно. Они тоже бродяжили по улицам, в подвалах и на чердаках. Да и радость свою добывали одинаково - воровством. Он чувствовал себя ближе к ним, а не к людям, для большинства из которых, и даже родных, давно умер.
Кто входил в стаю, где он был вожаком, погружался в тот же таинственный отрешенный мирок, соблюдая его ритуалы... Он выносил за хвост еще живую крысу, оглушенную и пойманную в нашей землянке, - а случалось это что ни день - и проделывал все молча: облил бензином из майонезной баночки, которым всегда и разводили мы огонь, поджег, швырнул... Зрелище устраивалось для всех. Начиная пылать, крыса судорожно оживала. Глядя, как она дико верещит и носится по кругу огненным комком, он тихо шептал: "Горит, подлюка..." Так он казнил какое-то зло - что-то жадное, трусливое, подлое. Все мучились, но смотрели. Когда верещание вдруг замолкало, а пламя гасло, становилось легко. Зло сгорало заживо, и только на земле еще дымился обугленный холмик. Крысу не было жалко: каждый убил бы мерзкую тварь, чем смог, найдя ее в землянке.
Много лет я видел Игорька Митрофанова только мельком, потому что не посмел бы сам с ним заговорить или подойти так близко, чтобы обратить на себя его внимание. Всегда он ходил не один, а с дружком по фамилии Вонюкин, что делало их похожими на братьев. Казалось, они носили одну и ту же одежду. Одевала их одинаково бедность, и когда повзрослели, одеждой служили взрослые обноски - добытые неведомо как и расклешенные по старой моде брюки, армейские зеленые рубахи навыпуск да солдатские ботинки. Зимой шатались по улицам в кирзовых сапогах и в телогрейках, пугая прохожих в сумерках своим видом. Тогда уж они выглядели в собственных глазах лихо, красиво, чувствуя, что наводят в районе страх.
Впрочем, Вонюкин был рыжим, поменьше ростом и тщедушней своего дружка, волосы которого ежились чернотой, упрямые и дикие, все равно что иголки. Скуластая сумрачная рожица одного и лоснящаяся прыщавая мордочка другого были отражениями очень разных душ.
Вонюкин с криком и как-то судорожно всегда что-то выхватывал у малышей, особенно если кто-то выходил из буфета после завтрака с пирожным или котлетой, и сразу же отправлял выхваченный кусок себе в рот, будто его и не было. Тех, кто жаловался, он запугивал, пинал. Пожалуй, только я и не уступал сложением Вонюкину, хотя был младше. Однажды, когда он что-то отнял у меня, я навалился на него и опрокинул на пол. И тогда к нему кинулась вся ребятня, кто пиная, кто щипая, кто хватая за волосы и куда-то волоча. Вонюкина с ликованием свергли. Но восстание маленьких рабов было подавлено спустя самое короткое время. Вонюкин вдруг взбежал на этаж с еще одним мальчишкой - и указал ему на меня. Паренек быстро подскочил и ударил меня в живот. Он был куда сильнее, но я в каком-то отчаянном порыве все же стерпел боль и ринулся на него. Мы даже сцепились, но тут подскочил Вонюкин, после чего они в несколько мгновений легко справились со мной и осыпали градом проворных ударов. На помощь никто не пришел: ребята пугливо сбились в кучку и смотрели, как меня бьют. А когда экзекуция закончилась, кто-то с восхищением и страхом шепнул на ухо: "Тебя бил Игорек Митрофанов!"