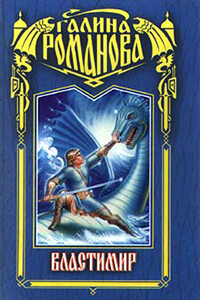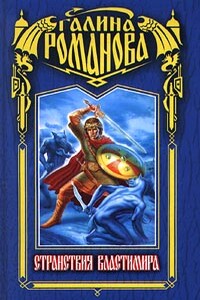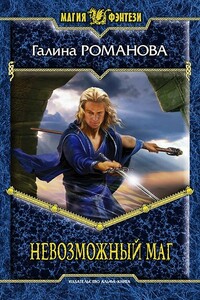Над рекой лился серебряный звук трубы, и эхо, унося его в леса, долго-долго играло им.
По весне над заводями трубили лебеди, им вторили журавли с Лисьих болот. Летом по опушкам и лугам звенели рожки и дудки пастухов. Осенью в прозрачном воздухе разносились трубные клики влюбленных оленей и туров. Зимой их сменяли рога охотников. А порой звучали окованные серебром или железом боевые турьи рога, сзывая ополчение или дружину. Но чаще лишь верховой ветер с трубным ревом гонял взад и вперед поземку надо льдом.
Потому-то и реку назвали Трубенем.
Закатное солнце позолотило верхушки деревьев вокруг поляны, где собралось перед возвращением в село стадо. Коровы уже стояли, поворотив головы в сторону тропы, по которой их пригнали сюда перед самым полуднем. Изредка раздавалось короткое нетерпеливое мычание, но пастух с подпаском все медлили.
Вдруг неяркий вечерний свет померк перед сиянием, что поднялось с юга над вершинами. Что-то затрубило в вышине, задрожали листья, с дуба посыпались мелкие, недоспелые желуди. Стадо испуганно замычало, шарахнулось, сбилось в кучу, словно это могло защитить от того неведомого, что надвигалось с южной стороны в облаке багрового цвета с ревом, вставшим как стена.
Маньяк[1] — как его называли в деревнях с давних пор — пролетел через опушку над обезумевшим стадом и двумя пастухами, что от удивления открыли рты, боясь сдвинуться с места. Их словно накрыло слепящее глаза сияние, оглушительный рев и грохот и ураганный ветер, от которого трещали и валились деревья.
Маньяк пролетел и скрылся. Мир вернулся в свой прежний вид, только где-то у самого озера, довольно, впрочем, близко, что-то ревело, затихая, словно умирающий тур, да перепуганное стадо разбежалось по лесу.
Пастух бросился туда, где затихал рев маньяка. Он сам не задумывался над тем, что влечет его туда, хотя первым делом надо было собрать стадо и спешить в деревню, рассказать людям и Перунову волхву, чтобы тот объяснил, что значит сие знамение. Волхв говорил уже, что кровавого цвета звезда, что видна порой на рассвете на краю окоема, есть знамение бед, что грядут на землю, и что посему всем надо усерднее молиться и чаще приносить жертвы Перуну, дабы отвратил могучий бог гнев свой от людей.
Но совсем не об этом думал пастух, продираясь через заросли молодых елок и кусты — так не терпелось ему раскрыть секрет маньяка. Если он живой, как человек или зверь, то после такого падения долго еще будет приходить в себя, и можно хоть одним глазком взглянуть на него, хотя бы издали.
Густая, малохожая чаща не пускала человека — ветви перегораживали путь, цеплялись за рубаху, деревья подставляли узловатые корни. Над головой перекликались птицы, тревожно шепталась листва. Лес предупреждал человека: не ходи! — но что он мог сделать с упорством и упрямством, худшими советниками, когда человек молод и горяч.
Впереди, в редколесье, замелькал свет. Но здесь не было поляны — пастух знал лес, как любой выросший в этих местах, когда с пяти-шести лет мальчишка уже бродит в нем без провожатых. Поляна была саженях в трехстах влево, значит, он нашел маньяка быстрее, чем думал.
Чем ближе подходил пастух, тем шел медленнее. К дикому зверю следует приближаться крайне осторожно, чтобы не спугнуть. А маньяк, даже если он и не знамение бога, должно быть, гораздо чувствительнее любого зверя. Не разобрав, может и убить.
Последние несколько сажен пастух прополз так тихо, что, будь на прогалине волк-одиночка, вышедший на добычу, и то не услышал бы. Ни один листик не дрогнул, ни одна травинка не шелохнулась и веточка не треснула. Лишь воин-разведчик был бы сноровистее его.
Подползши, пастух приподнял голову и застыл. То, что он увидел, разом наполнило его душу страхом, но он не мог даже пошевелиться, как ни хотел.
Трава и кусты на прогалине сгорели дотла, ветви поваленных и устоявших по краям деревьев обгорели и почернели. Сизый дым поднимался вверх и уходил в сторону. А в самом центре пепелища возвышалось нечто, похожее на камень-валун, побывавший в костре. Странный камень весь светился, от него тоже поднимался дым, тая в небе над лесом.
Стояла тишина, словно недавно тут ничего и не грохотало. Ушедший наполовину в землю валун не шевелился. Дымок рассеивался. Откуда-то послышался голосок иволги, над головой запищала малиновка. Лес успокаивался, снова зажил своей жизнью.
Выждав еще немного, пастух поднялся и, крадучись, пошел к валуну. Если это упавший с неба камень — один волхв, забредший в деревню во время моровой язвы, рассказывал, что так случается иногда, — то можно обойти его кругом и даже потрогать — если хватит смелости.
Под ногой мягко похрустывала обгорелая трава. Птицы забеспокоились было, когда он сделал несколько первых шагов, но пастух не придал этому значения. Они заметили его — только и всего. А может, какого зверя валуном придавило и сороки созывают друзей-подружек на пир.
Он прошел уже десяток шагов, когда с другой стороны валуна долетел тихий скрип, будто дверь отворилась. Пастух замер на одной ноге, не зная еще, идти вперед или назад. Наконец, решившись, он сделал шаг вперед…