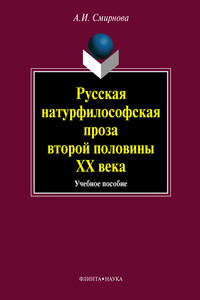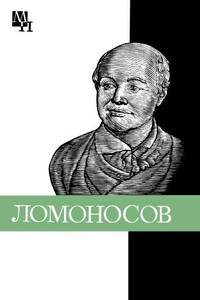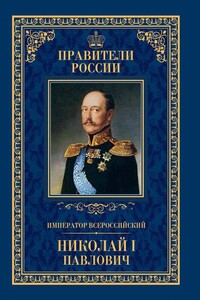Книга, в которой заключены все тайны, есть человек; он сам есть книга сущности всех сущностей.
Яков Беме
Два события послужили поводом для написания этой книги.
Зимой 1954 года, получив работу на Сахалине, я прилетел в Оху, небольшой город геологоразведчиков и «зеков». Годом раньше я окончил юридический факультет питерского университета и, хотя понаслышке знал о лагерях, бывал в тюрьмах в качестве следователя-практиканта, город, где большинство жителей или сидели некогда, или временно на свободе, или уже сидят в лагере, но передвигаются по улицам без конвоя или под ружьем, меня удивил.
Пользуясь служебными связями, я вскоре добился возможности побывать в одном из мест заключения — лагпункте № 25.
Впоследствии мне не раз приходилось посещать различные лагеря. Десятки людей у меня на памяти, сотни судеб, немыслимых трагедий, которые не придумает самый изощренный романист! Но первое впечатление от лагеря до сих пор не изгладилось из памяти.
То был обыкновеннейший из лагерей: не очень крупный, но и не такой уж маленький, — в нем постоянно содержалось несколько тысяч человек. Ограда с колючей проволокой и охраной на вышках по углам. Ясно видимые силуэты пулеметов. Прожекторы. Служебные помещения сложены из кирпича и аккуратно выбелены известкой. Запутанный коридор проходной с тремя дверями, расположенными не на одной прямой: беглец наталкивается на поворот, за которым стоит вооруженный охранник, а очередная дверь заперта снаружи длинным железным прутом.
Не прорвешься!
За проходной открывался небольшой пустырь, застроенный в несколько рядов неотапливаемыми бараками, где на нарах жили заключенные. На Северном Сахалине температура воздуха зимой падает до 50 градусов ниже нуля, не стихают сильные ветры с метелями. «Зеки» не замерзали благодаря тому, что спали кучно, грея телами друг друга. Но и бараки сколачивались не в одну доску-шелевку, а «фаршировались»: стены двойные, между досками — опилки вперемешку со шлаком. Набивка, впрочем, быстро перепревала, слеживалась и опускалась на метр ниже потолка, так что на верхних нарах бывало куда холоднее, чем внизу.
Лагпункт-25, как и прочие сталинские лагеря, не был создан для уничтожения людей. Точнее сказать, к их истреблению не стремились, относясь к болезням и гибели, как к неизбежным издержкам. То был лагерь-процесс, никто в нем долго не задерживался, умирая и освобождая место для вновь прибывшего. Сама жизнь здесь была короткой дорогой на тот свет. Умирали от холода, от воспаления легких, от систематического недоедания, от авитаминоза, от тоски, от безвыходности положения, от несправедливости лагерной жизни.
Но не внутренняя организация лагеря меня поразила. Меня потряс запах. Моча, кровь, пот, карболка — земля и стены бараков пропитались этой удушливой смесью. Смердящий воздух ударяет в ноздри, запах густ и стоек, он словно исходит предсмертным воплем. Каждый раз, проходя в зону через тройные запоры, я вздрагивал от него, как от удара.
Прошли годы. В начале семидесятых мне довелось побывать в Польше и, разумеется, в туристской схеме оказался Освенцим. Замечу сразу: он меня не поразил… Конечно, это не лагпункт-25, а лагерь уничтожения. Однако между Освенцимом и сахалинскими лагерями разница небольшая, она легко прослеживается сравнительной психологией национальных характеров. Немцы собирали очки, волосы, одежду, зубы, жир — человек полностью утилизировался, даже кости шли на удобрение. Неправда, что он уходил в трубу, — улетал лишь дым. Русским такая меркантильность чужда, трупы закапывались в землю.
Во всем остальном лагеря похожи друг на друга, как близнецы. И это я понял тотчас: сделав первый шаг за ворота Освенцима, я позеленел от позыва рвоты — меня потряс запах. Я не ожидал, что расположенный за одиннадцать тысяч километров от лагпункта-25 далекий Освенцим пахнет той же терпкой смесью мочи, пота, карболки, крови… Родовая сущность человека, переходящего в иной мир, закрепилась в этом запахе прочно, можно сказать, намертво.
Именно тогда мне впервые почудилось, что я тронул руками один конец цепи человеческих поколений и глухим звуком отозвалось ее отдаленное, первое звено, ушедшее в сумерки веков предыстории. Неистребимый запах смерти показался мне каким-то намеком, закодированной информацией палеолита с его, по-видимому, жесткими законами.
В чем же заключена изначальная вина людей, за что и почему они созданы способными даже на такое? Отчего каждый раз, когда человечество претерпевает кровавый катаклизм, сметающий накатанную дорогу бытия, когда сквозь кисею цивилизации вдруг проглядывает нечто животное, даже отдаленно не напоминающее дневной лик Человека, когда социальные процессы выскальзывают из-под контроля, превращаясь в трагический вызов Истории, мы с какой-то полудетской надеждой, но и в привычном ужасе оборачиваемся к собственным истокам: неужто наша природа такова? Полно, люди мы или не люди?..