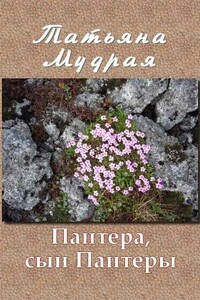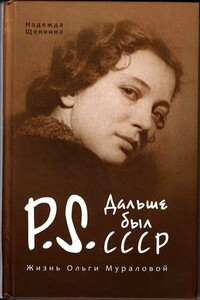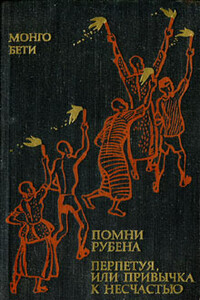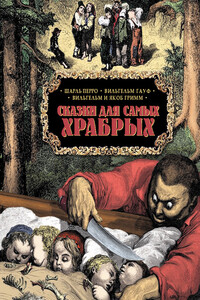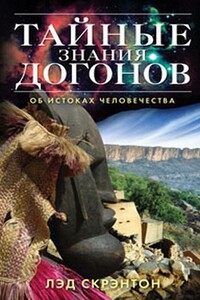22 августа 1944 года, в 19 часов 11 минут, в этот уходящий летний, разомлевший от жары день, Гаврилэ Дрэган, осужденный на смерть военным трибуналом, находился на скамье подсудимых кассационного суда.
Вместе с ним сидели здесь все те, кто тоже ожидал решения суда: бородатый крестьянин, во взгляде которого сквозило то смиренное унижение, то хитрость; цыган с фальшиво-доброжелательной улыбкой, за которой он безуспешно пытался скрыть натуру человека, готового в любой момент пустить в ход нож; три дезертира; толстый мужчина с непроницаемым лицом и вставными металлическими зубами; спекулянт сыром и две женщины в одинаковых черных платьях, одинаковых платках, завязанных вокруг шеи, одинаковых нитяных чулках. Эти две тонкие черные фигурки напоминали монашек неведомо какого нищенствующего ордена. На самом же деле они были владелицами галантерейного ларька на рынке, арестовали их за продажу военного имущества.
Внимание Дрэгана больше всего привлекали именно они. Наверное, потому, что с тех пор, как их ввели в казарму, женщины не прекращали всхлипывать, словно им было еще чего бояться, помимо утверждения приговора, содержание которого они уже знали.
В комнате, где они находились, пахло керосином, которым, вероятно, служащие протирали ее, делая уборку после долгих заседаний. Напротив подсудимых в тупом оцепенении застыли члены суда. Подсудимые, находившиеся тут же в комнате, напряженно ждали. Дрэган среди всех выделялся своим независимым видом и непреклонной твердостью. Председатель в красной шапочке тягучим голосом перечислял статьи закона.
Сам не зная почему, Дрэган все время смотрел на двух плачущих женщин. Он пристально разглядывал их до тех пор, пока они, словно под воздействием какого-то импульса, медленно — сначала одна, потом другая — не повернулись в его сторону и не посмотрели на него.
И как же ему было не удивляться! Насколько они походили друг на друга фигурами, движениями и жестами, настолько они оказались непохожими, когда он увидел их лица. У одной глаза были водянистыми, бесцветными, с затаенной горечью, а у другой в глазах отражалась целая гамма чувств: и беспокойство, и наивность, свойственная юности, и страх за свою судьбу. Эти глаза, не скрывая любопытства, прямо смотрели на него. Дрэган чувствовал, как они вглядываются в каждую его черточку. Ему казалось, эти огромные глаза юной девушки задавали один и тот же неразрешенный вопрос: «Почему мы здесь?» Таких больших, живых и выразительных глаз Дрэгану еще не приходилось встречать. Над этими, глазами вырисовывались тонкие, изогнутые, словно крылья чайки, брови. Чистое белое лицо напоминало византийскую икону.
У другой женщины тоже были византийские черты лица, только лицо это приобрело землистый цвет, нос заострился, а губы сморщились.
В ту секунду, когда женщины повернулись в его сторону, мысли Дрэгана, как маятник, метались между жизнью и смертью, прошлым и настоящим. Молодость и старость, день и ночь, настоящее и будущее — все смешалось. Фигуры женщин и их лица слились в единое целое, и он уже не различал их.
А над всем этим звучал тягучий, словно тяжелая, бесконечная, глухо позвякивающая цепь, голос председателя, зачитывающего приговор.
Дрэган не видел, как женщины отвернулись от него и снова застыли, словно два черных тонких изваяния, среди серо-зеленых мундиров дезертиров.
Стояла жара, и Дрэгану было так тяжело в течение всего времени предварительного заключения, что теперь мысль о смерти казалась ему неразрывно связанной с ней. С жарой, которая давит тебя, давит до состояния полнейшего отчаяния. Она как будто только для того и существует, чтобы вызвать желание побыстрее услышать приговор, чтобы притупилось чувство перехода в небытие.
Только иногда она вызывала другую ассоциацию: перед ним возникало нечто напоминающее широкий сверкающий пляж и лениво вздымающиеся и опадающие волны моря. Дрэган то слышал его плеск, то ощущал его медленное колыхание. Его не раздражал запах керосина, распространяющийся от деревянных полов. Там, в порту, где он чаще всего видел море, оно лизало берег своими волнами, переливающимися всеми цветами радуги от разводов масла, и пахло соляркой. Море колыхалось медленно, терпеливо и размеренно, будто дышало.
Он вдруг понял, почему думает о море. Не только жара тому причиной. Сидящая перед ним девушка ритмично качала ногой, выдавая тем самым свое напряженное состояние.
Девушка?.. Да откуда он взял, что это именно девушка?! То был один из силуэтов, не имевших признаков, по которым можно было бы определить, кому он принадлежит. Но Дрэган был убежден, что это девушка. Всякое другое представление он исключал и отвергал. Та, другая, была где-то в прошлом, а ему нужно было настоящее. Его интересовало настоящее, и оно, это настоящее, должно быть красивым, так как это единственное, что ему еще принадлежит.
Да, да, теперь он был убежден, что не могло быть и речи о каких-либо вариантах: речь шла только о настоящем и будущем, об этих больших сверкающих, заставляющих дрожать, трепещущих глазах, о том, что они по мере приближения человека к своему смертному часу станут водянистыми, бесцветными. Речь шла о романтической, возвышающей прозрачности лица и об обостренности его чувств. Для него эта девушка была сейчас как бы олицетворением самой жизни. А ему так хотелось жить! В его полном энергии существе все боролось за жизнь. Ритмично покачивающаяся перед его внимательными глазами нога выдавала страшное волнение девушки. Дрэган заметил, что лодыжка была тонкая, изящная, как гриф скрипки. И ему захотелось погладить ее. Взять в свои большие руки маленькую ножку, прикоснуться к пальцам и ласкать их, ласкать до тех пор, пока девушка не успокоится…