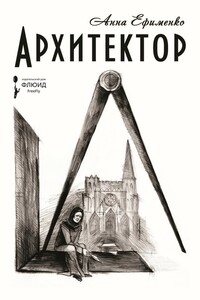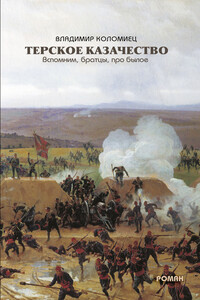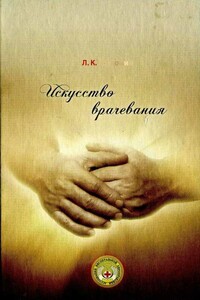Был год 1364-й…
В ту пору летописец записал в своем труде: «Увы, увы!.. Опять пришла беда на Русскую землю, новый страшный мор обрушился на города и веси. Началось сие бедствие в Муроме и Нижнем Новгороде. В то же лето моровое поветрие перекинулось к Плещееву озеру и ко всем Поволжским городам. Люди умирали во множестве и в Ростове, и в Твери, и в Рязани, и во Владимире… В Москве каждый день погребали до ста пятидесяти душ. От сего мора обезлюдели Переяславль-Залесский, Дмитров, Суздаль, Стародуб… И бысть скорбь по всей земле Русской, ибо деревни опустели, поля травою заросли, многие доселе людные места обратились в пустоши. Тяжко и горестно излагать о сем, бывала ли где-либо столь жуткая напасть?..»
…В Москве траурно гудят колокола. Возле белокаменного Архангельского собора, устремившего в хмурое декабрьское небо золоченые кресты и купола, толпится небогатый московский люд. Вся местная знать собралась под высокими гулкими сводами храма, люди стоят со скорбными лицами, с зажженными свечами в руках. Хор монахинь протяжно и заунывно оглашает тяжелую давящую тишину пением заупокойной стихиры «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть…»
Идет отпевание великой княгини Александры Васильевны, безвременно скончавшейся от тяжкого недуга.
Заупокойную литургию служит сам митрополит Алексей, семидесятилетний старец с длинной седой бородой. Усопшая княгиня при жизни пользовалась особым расположением митрополита Алексея, который удостоился столь высокого церковного сана благодаря стараниям ее мужа великого князя Ивана Красного. Супруг Александры Васильевны умер пять лет тому назад, и прах его ныне покоится в одном из боковых приделов Архангельского собора рядом с погребениями его отца и двух братьев.
После смерти Ивана Красного великим московским князем стал девятилетний Дмитрий Иванович, коему ныне исполнилось четырнадцать лет.
В толпе простонародья звучат негромкие голоса, люди делятся друг с другом невеселыми новостями, топчась на месте и поеживаясь на холодном ветру.
— Слыхал, сосед? — молвит плечистый бородач в длинном овчинном тулупе, обращаясь к низкорослому мужичку в шубе из собачьих шкур, с высоким меховым колпаком на голове. — Купец Абросим помер вчерась повечеру.
— Да ну?! — изумленно воскликнул мужичок в колпаке. — Он же был здоровенный детина!
— Истинно тебе говорю, — продолжил бородач, издав печальный вздох. — У него железа вспухла на шее, потом его в сильный жар бросило. Так он промаялся с утра до ночи, а на другой день его кровавый кашель стал мучить. Лекарь вечером пришел к нему, а бедняга Абросим уже отдал Богу душу.
— Жена моя так же помирала, — вступил в разговор оружейник Онфим, известный своим мастерством всему московскому Посаду. — Сначала у нее какая-то шишка появилась на бедре, затем ломота-огневица ее скрутила. Два дня она, сердешная, в жару металась. Потом кровь у нее хлынула изо рта… — Онфим скорбно покачал головой в лохматой шапке. — Лекарь, как увидел кровотечение, даже подходить к моей Авдотьице отказался. Иди, говорит, за священником, мол, я тут уже бессилен. Так женушка моя и скончалась спустя час после ухода лекаря.
— Боярские жены говорят, что великая княгиня иначе помирала, — делилась слухами вездесущая торговка Арефия. Ее голова была повязана темным траурным платком, поверх которого возвышалась темно-красная парчовая шапка с меховой опушкой. — Когда челядинки обмывали тело усопшей великой княгини, то они не увидели на нем ни красных пятен, ни распухших желез. Хворала великая княгиня дней семь или восемь, причем не было у нее ни жара, ни кровавого кашля. Наоборот, сильный озноб ее одолевал. Дело вроде бы на поправку пошло, но заснула однажды великая княгиня и не проснулась. — Арефия всхлипнула и осенила свой лоб крестным знамением.
Едва Арефия умолкла, как несколько человек заговорили разом, обсуждая признаки моровой язвы, вот уже полгода косившей народ в Москве и ее окрестностях. Действительно, эта неведомая хворь, поражая людей, проявлялась по-разному. Кто-то из больных метался в сильном жару, а на кого-то наваливался озноб. У одних на теле выступали шишки и язвы, у других тело оставалось чистым. К кому-то смерть приходила вместе с кровавым кашлем, а иные умирали от судорог либо в сыром поту, либо в крупной дрожи.
Делясь впечатлениями от всего увиденного и услышанного, ремесленники и торговцы не забыли упомянуть и о том, что все лекари-иноземцы разбежались из Москвы, а местные врачеватели совершенно бессильны перед этим ужасным моровым поветрием.
— Князь Дмитрий запретил хоронить умерших от мора в стенах Москвы, всех покойников вывозят за город, — вставил каменщик Гурьян, опасливо понизив голос. — Однако ж прах своего младшего брата князь Дмитрий захоронил в усыпальнице Архангельского собора. Там же, как видно, будет погребена и мать князя Дмитрия.
— А нам-то что от этого? — пожал широкими плечами оружейник Онфим. — Нас, серьмяжников, все едино в сей собор не пускают. Туда вход открыт токмо князьям да боярам.
— Так ведь князья-бояре и по Москве шастают, вот в чем дело, — тем же опасливым голосом заметил сивоусый Гурьян. — Я считаю, привилегии могут быть лишь у живых, а мертвецам они ни к чему. Иначе эту страшную заразу нам будет не искоренить вовек!