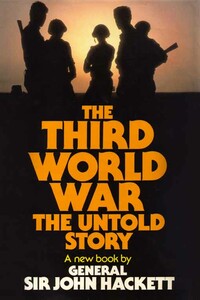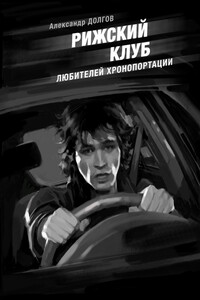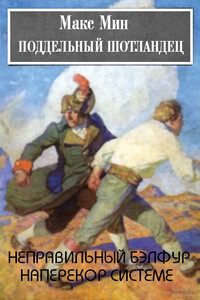День первый,
в который по крайней мере два соотечественника моны Алессандрины невзначай отмечают для себя двойственность ее природы.
– Вот вам и Кастилия, мона Алессандрина, – сказал капитан. Поименованная моной Алессандриной подтянула к горлу меховые края очень широкого, очень теплого плаща, и скривила самый уголок рта. По этой ухмылке нельзя было понять, как показалась ей Кастилия, но капитану не это было важно. Важно ему было хоть что-то сказать молодой и знатной даме, вышедшей поутру на палубу его галеры – иначе он уронил бы себя в собственных глазах.
Шел первый рассветный час. По зимнему времени вокруг было серо и сыро. Туман сползал по низким берегам к воде. Беленые известью ограды нечастых подворий тонули в дыму, и воздух изрядно горчил.
– К полудню прибудем, – сказал капитан, полагая, что исчерпал себя, как собеседника, полностью.
Мона Алессандрина на продолжении беседы как будто и не настаивала. Она даже отступила на полшага от капитана, давая тому понять, что он волен хоть вовсе уйти, повернувшись к ней широкой спиной.
Капитан не уходил. В его командах сейчас не было никакой нужды, с рулем справлялся помощник. Так что он остался возле моны Алессандрины и уставился на серую струистую гладь, казавшуюся наклоненной в сторону уже далекого моря, так что чернобокая галера словно бы взбиралась по реке, ровно выгребая рядами весел – по два с каждого борта. В промежутках меж всплесками слышно было, как над туго свернутым парусом и «вороньим гнездом» лениво хлопает отсыревший флаг со львами св. Марка.
Комкая рукой в очень узкой перчатке край капюшона, мона Алессандрина думала, и чем далее, тем более удручалась беспорядком в своих мыслях. Мыслей было слишком много, и все о разном, ибо впереди ждали и мессер Федерико, посол венецейский при кастильском дворе, и сам двор кастильский, с королем, королевой и грандами, и дела при этом дворе. А дел этих окаянных не сделаешь, не разузнав до тонкостей того, о чем принято не говорить, но догадываться. Мысли всю ночь не давали ей покою, и на палубу она поднялась ни свет, ни заря, чтобы подышать свежим ветром и посмотреть на бегущую воду. Но вода скользила под борта, уже как черное с прозеленью масло, и под веслами плескалась приглушенно, словно боясь разбудить спящую сушу, а вместо ветра был горький на вкус туман.
– Знаете, мона, отчего здесь такой горький воздух? – неожиданно для себя нарушил молчание капитан, и тут же объяснил: – это, говорят, оттого, что по всей Кастилии жгут на кострах еретиков.
– Паленое пахнет иначе, мессер капитан, – серьезно отозвалась мона Алессандрина, – если бы пахло паленым так сильно, как пахнет сейчас дымом, нам пришлось бы завязать лица мокрым.
– Мона Алессандрина, вы были свидетельницей сожжения?
– В моем имении сгорел свинарник.
Капитан поперхнулся и заслонил смеющийся рот кулаком.
– Говорят, здесь любят смотреть, как жгут, и лица себе не завязывают.
– Говорят, московиты любят всем на потеху бороться с медведем. У каждого свой вкус к зрелищу.
Капитан хотел было сказать на это, что прилюдное сожжение суть не зрелище, но богоугодное и благочестивое деяние веры, так и называемое по-кастильски – auto de fe, однако счел за благо промолчать, поскольку полагал, что моне Алессандрине это превосходно известно.
Галера все так же ровными толчками продвигалась вверх по словно бы чуть наклонной водной глади. Берега мало помалу яснели, влажно темнела на них зимняя зелень, краснели черепичные кровли подворий. К дымной горечи примешался было густой запах хлеба, и тут же истаял. В туманной еще дали зазвякал колокол, и капитан с моной Алессандриной перекрестились, как все добрые христиане, лишенные возможности отстоять заутреню.
На левом берегу в межхолмьи забелело стенами большое село, а у самой воды рядком расселись на чурбаках рыбари с длинными удами. Один встрепенулся и выдернул рыбку. Мона Алессандрина подалась вперед и прищурилась было, всматриваясь, но почти сразу рассеянно отвернулась.
– Вы, мессер капитан, как полагаете – можно ли доплыть до Индий через море Мрака?
– Мона Алессандрина, мне не доводилось плавать до Индий через море Мрака, – капитан похоронил в кулаке не самую добрую свою улыбку: он не любил, когда женщины расспрашивали о море. Сейчас начнется – про сирен да про морского черта…
– Я просто думаю, мессер капитан, что по здравому рассуждению там никак не может быть Индий.
– И что же там может быть по здравому рассуждению?
– По здравому рассуждению там должна лежать суша, такая же большая, как здесь, но никак не Индии, потому что иначе в мире не будет равновесия. И что это за мир: переплыл море, да сразу Индии.
– Ваше здравое рассуждение весьма любопытно, мона Алессандрина, – снизошел до одобрения капитан, – вы, верно, не чужды космографии.
– По правде сказать, я рассматриваю карту более, как картину, и сужу о ней, как судят о картине. Старые полотна, как известно, полны несоразмерностей, ибо живописцы не были еще столь искусны в изображении жизни и вещей. Возможно предположить, что наши космографы еще пока несведущи и неискусны, потому и карты несоразмерны, и Индии по их воле помещаются в двух неделях пути на Запад.