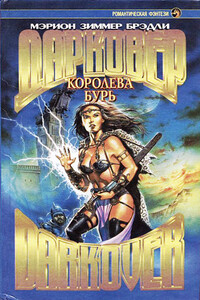В книге Вячеслава Курицына “Русский литературный постмодернизм”, вышедшей в 1997 году, Пелевину уделено не больше трех страниц. Это нельзя объяснить малоизвестностью писателя, ведь уже тогда он был одним из немногих, о ком сообщали по телевидению. Ориентация его на массового читателя и упрощенность текстов тоже не причина столь поверхностного внимания. Ведь о Пригове, у которого “эстетическим событием становится чистый объем”, Курицын пишет гораздо больше, несмотря на обзорный характер работы. Объяснить это можно другим предположением. Тем, что Пелевин сразу был воспринят как журналист от литературы, комментатор российской действительности и в каком-то смысле даже не творец, а криэйтор, наподобие Татарского из “Generation “П””. Вследствие чего он как бы и не стал писателем в том традиционном смысле, за который не вышли остальные постмодернисты. Том смысле, который обязывает писателя иметь позицию. Пелевин пришел как будто без нее, ни от чего не защищаясь своими текстами и попутно отказываясь считаться с позицией других, воспринимая их, наоборот, как мишени.
Такая точка зрения во многом надуманна и доказуема лишь от противного. В то же время ясно, что Пелевин — это один из ведущих голосов современности, а его имя и постмодернизм практически слова-синонимы. Возможно, Курицын уделяет ему мало внимания потому, что отдает приоритет другому постмодернизму. Как следствие, ограничивается немногословным перечислением реквизитов Пелевина как писателя-комментатора: “незамысловатость фабулы”, “открытость профанной злободневности”, “деконструкция советского мифа” и т.п. Все это, безусловно, характерно для Пелевина, но создается впечатление, что беглая оценка его творчества, данная Курицыным, до сих пор бессознательно живет в той части, условно говоря, прогрессивной критики, которую как раз можно выделить по ее способности говорить о Пелевине без ругани.
То, что последние десять лет Пелевин не развивается, признано почти всеми. Его заперли в должности писателя-постмодерниста. Статус миддл-литератора, присвоенный ему Сергеем Чуприниным, только подчеркнул ощущение того, что писатель топчется на месте. Вместо метода он обновляет наполнение, вместо конфликтов — декорации, вместо образов — афоризмы. Возникший в конце девяностых образ миддл-литератора сегодня насквозь прозрачен. Образующий его механизм диффузии двух расчетов — на массовую аудиторию и интеллектуальный статус — изучен вдоль и поперек со всех точек зрения. Пример Пелевина здесь стал классическим, поскольку поразмышлять о “секретах успеха” нас приглашает сам писатель. Но это разговор чисто публицистической природы, не так много имеющий отношения к сути. Между тем Пелевин прошел реальный путь в литературе. И прошел с реальным опытом взаимодействия с современностью, как человек, который начал с того, что распознал постмодернистский мир, а закончил существованием в нем.
“Омон Ра” и “Зомбификация”. Порог постмодернистского мира
Вряд ли хоть кто-нибудь, обсуждая “Омон Ра”, не напомнил о том, что речь в повести идет о деконструкции советского мифа. Тем самым из момента альтернативы во взгляде на советскую космонавтику был сделан принцип. Ведь “деконструкция” — это слово-вампир. Оно не только высасывает все соки из любого контекста, но и просто отравляет его. Поэтому уже одно упоминание о деконструкции превращает Пелевина в постмодерниста. Но так ли необходимо это слово для “Омона Ра”? В сущности, его придумали критики, которые поняли, что “просто критикой” строя повесть назвать нельзя, а другого названия для нее нет. Для “просто критики” у Пелевина не хватало указания на какую-нибудь “правильную” действительность вроде свободного Запада, не было полемического нерва. На их месте зиял провал, заселенный рефлексиями о детстве и бытовых вещах, погруженных в самодостаточную интроверсивную атмосферу, настолько густую, что уже становящуюся сакральной. Тогда почему бы не заменить деконструкцию гротеском, фарсом или сюрреализмом?
Деконструкция означает мгновенное устаревание событий. Одновременно их неподлинность. Это система дамб, стихийно разбросанных на пути текста и заставляющих его постоянно менять течение. Сюжет здесь находится под угрозой высыхания. Сюжет не должен произойти вообще — максимум в виде цитаты. В “Омоне Ра” Пелевин еще не поступается цельностью истории ради донорских цитат. А главное, не делает события повести равноценными перед лицом, скажем, абсурда. У него есть наличность, которую не хочется считать условной, и вряд ли бы он согласился с тем, что за его словами стоит произвольность. Поэтому “Омон Ра” — вполне модернистское произведение. Единственное, что не позволяет назвать его “традиционным”, — это специфическое указание на сакральное измерение, контакт с которым писатель, не покидая банальной обыденности, сумел не опошлить. Специфика этой сакральности состоит не в советском происхождении, тем более что для конспирологов и эзотериков эта тема была прозрачна сразу. Она состоит в том, что ее субъектом стал обычный человек. Если бы Ра-Кривомазов не был сыном рядового милиционера и не имел в детстве стандартной мечты о космосе, трагизм истории мог бы списаться на исключительность его персоны. Но Ра-Кривомазов духовно безроден, поэтому вторжение сакрального в его жизнь есть указание на беззащитность перед ним советского человека вообще. Для социалистической идеологии такая мысль была противоестественна, для ее критиков — тем более, ведь для прогрессивной мысли советский строй был чем угодно — упрощением, оболваниваем, в лучшем случае массовым гипнозом — но не обиталищем сакрального.