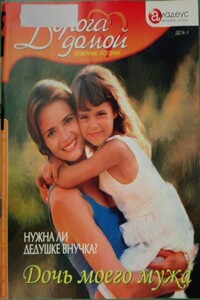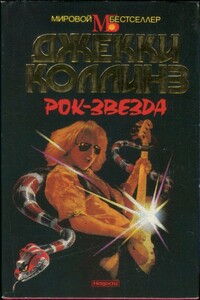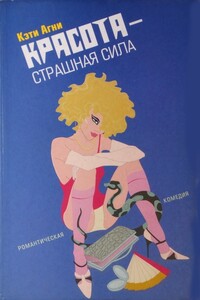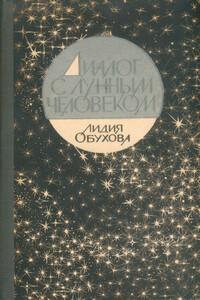— Лёнька, — сказала я утром, трогая свои отросшие волосы, — мне нужна голубая ленточка.
— Здравствуй, — ответил он, приоткрывая один крупный голубой глаз. Лёня всегда говорит мне утром «здравствуй», без этого день у нас не начинается. — Здравствуй. Во-первых, тебе нужна красная ленточка, а не голубая. В одиннадцать часов откроются магазины, и купим.
— А во-вторых, — вразумляюще сказала я, — в одиннадцать мы будем уже в поезде. Ты забыл, что мы сегодня уезжаем?
Лёня открыл второй глаз и проснулся окончательно.
— Ничего, — подумав, ответил он. — Купим ленточку по дороге. Ведь поезд будет же где-нибудь останавливаться?
Но поезд не останавливался. Это был скорый поезд, очень скорый.
— Как медленно, оказывается, летают птицы! — удивлялся Лёнька, глядя в окно.
Поезд спешил в весну.
Мы стояли в коридоре, влипнув в окно, как в телевизор.
Уже показались первые желтые цветочки. Через час — три грача, черных на черной пашне. В третьем часу пополудни — дикие, одетые робким цветением деревца. К вечеру — первые березы в цыплячьих листиках и разлив неизвестной реки: ясные воды, в которых невесомо, как посреди воздуха, парили лапчатые кусты на ногах-отражениях.
Солнце, оранжевое и стремительное, словно снаряд, неслось над деревьями, срезая верхушки. Но потом остыло, притомилось, малиновая его голова покрылась сизым пеплом; горизонт срезал киль — и поплыла, покачиваясь, межпланетная ладья со скучающими астролетчиками. Ну и пусть они скучают на здоровье. Эта планета наша, мы на ней не собирались скучать.
Едва зашло юпитероподобное солнце с поперечными полосами туч, как с другой стороны уже поднялась такая же юпитероподобная луна, огромная, чайная и тоже перечерченная длинными облаками.
— Вступаем в неизвестные страны, — торжественно сказал Лёня. — Открываем их. Пусть мы не Колумбы, но мы — Америго Веспуччи, и нашими именами они будут названы!
Поезд шел и шел по темным степям. Мы пересекли ночной Днепр. Он был широк, с тусклым лунным перстом вдоль течения. Мы смотрели на его темные воды и благодарно повторяли:
— Это ведь Днепр! Вот так Днепр! Ну и Днепр!
Мы тихонько лежали на жестких верхних полках, и под синим светом ночника лицо у Лёни было напряженно-ожидающим, словно ему снился сон из той, старой жизни, когда мы не знали друг друга.
Я протянула руку, чтобы коснуться его раскрытой ладони и узнать, что он теплый и дышит. Мне тревожно видеть спящих: а вдруг они умерли? Теперь это ощущение не такое острое, как два года назад, понемногу я от него избавляюсь и, наверное, избавлюсь совсем.
О смерти мне всегда думалось без страха.
Отец сказал:
— Это потому, что ты молода. А когда ощущаешь себя молодым каждой кровинкой и каждым мускулом, это заполняет человека без остатка.
Он никогда не употреблял слов «девочка» или «ребенок», а именно так — человек, словно я ему всегда, с самого рождения, была ровней.
В тот день мы возвращались с кладбища. Я молчала, а папа говорил и говорил, блуждая по сторонам взглядом. На нем был черный галстук и серая шляпа. Черной шляпы у него не нашлось, да и на серой явственно проступал след от зеленого мазка, хотя я долго чистила пятно бензином. Наша медленная дорога так и запомнилась мне похожим на щелчки шуршаньем ломких листьев под ногами и летучим запахом бензина.
— Когда утомляешься, — говорил папа, — и душевно тупеешь, то жаждешь отдыха. Все равно, как бы он ни назывался, хотя бы даже смертью. Мама очень устала, ты должна понять это.
Я кивнула, не открывая рта, полного соленым комом. Еще бы мне не знать, как устала мама! Чтобы быть рядом с нею последние месяцы, я поступила и больницу нянькой.
Мама стала так слаба к этому времени, что не смогла мне запретить, а папа, кажется, просто не заметил, куда я ухожу по утрам: в школу или в больницу. Он жил как во сне. После завтрака, как обычно, уходил в кинотеатр, где уже много лет рисовал рекламные щиты новых кинокартин. Потом брел в больницу и, если его пропускали, часами сидел у маминой кровати, держа ее за руку. А вечером, дома, при электрическом свете, писал мамин портрет…
— Но ты ничего не бойся, дочь, — утешал он меня в тот день, когда мы возвращались с кладбища. — Со своей собственной смертью человек никогда не встречается: пока есть он — нет ее. А когда приходит она — его уже нет.
На следующий день я сказала отцу, что останусь работать и больнице, поступлю на вечерние курсы медсестер, а в конце концов стану врачом, потому что я не могу допустить, чтобы люди умирали.
Я промолчала о том, что на папин заработок нам и не прожить теперь: чуть не треть зарплаты у него уходила на краски и холсты. За тюбик парижской индиго он готов был отдать что угодно.
— Хорошо, дочь, — ответил он, свесив голову, — мне остается только согласиться. Рано или поздно ты неминуемо должна окунуться в жизнь. А это варево из всех цветов спектра. Но если ты хороший человек, ничто плохое к тебе не пристанет. А если дрянь, то о тебе и беспокоиться нечего.
Вот каким был единственный воспитательный разговор моего отца. Я обещала себе, что не стану его разочаровывать. Хотя папа всю жизнь, кажется, только и делал, что разочаровывал всех вокруг. Например, он так и не стал членом Союза художников.