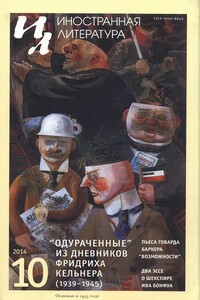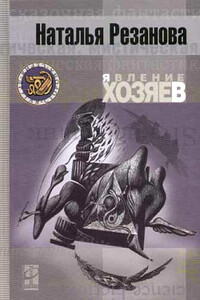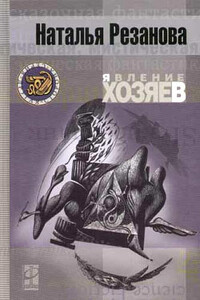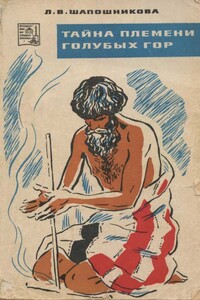Письмо из прошлого в будущее
В одном из недавних писем Рада Аллой написала мне: «Собственно говоря (пусть это из текста не очевидно), но я-то знаю, что писала ее (книгу воспоминаний. — Я. Г.) в качестве длинного письма тебе — как будто ты просил меня вспомнить об Иосифе и я что вспоминала, то и писала. А вот теперь… я вспомнила разговор, который мы с тобой вели тридцать пять лет назад, вскоре после отъезда Иосифа. Ты тогда сказал: надо озаботиться раскрыть посвящения, все эти инициалы и прочее. А то потом будет не вспомнить. Я, в принципе, была с этим согласна, но все-таки спросила: ну а что дальше? Имя, отчество, фамилия. А потом — год рождения (а сейчас уже во многих случаях годы жизни), профессия? Какие-то жизненные характеристики? И ты, помнится, не нашел, что ответить».
Со времени этого разговора о Бродском написаны десятки книг и сотни исследований, раскрыты посвящения, прокомментированы детали его биографии, многократно интерпретированы его тексты. Но фигура Бродского остается не менее загадочной, что и тридцать пять лет назад. Очевидно, дело не просто в раскрытии инициалов и характеристиках окружавших поэта людей, а в улавливании тонких и сложных связей его со временем, которое реализовано в человеческих судьбах. А это требует таланта вспоминания, которым Рада Аллой обладает в полной мере.
Своими воспоминаниями она сама ответила на тогдашние собственные вопросы. И очень точно определила жанр — «письмо к посвященным». Неважно — я ли это, или кто-то иной, близко знавший Бродского и тогдашнюю жизнь вокруг нас.
Равно и название она выбрала парадоксально точно.
Иосиф Бродский — поэт трагического мировосприятия в молодости, в зрелости исповедовавший суровый стоицизм, — был тем не менее веселым человеком в кругу друзей. Контраст между экзистенциальной доктриной его поэзии и бытовым поведением создавал всю жизнь сопутствующую ему уникальную атмосферу — поражающую и привлекательную.
Эту особенность личности Бродского и уловила Рада Аллой, которую Бродский любил и которой доверял.
Рада Аллой пишет: «Мы были ровесниками, мы были на «ты», мы встречались в Париже, Риме и Нью-Йорке, дважды я была его конфиденткою, он был шафером на моей свадьбе, навещал нас по всем адресам, что мы сменили в Ленинграде, я присутствовала в зале во время обоих над ним судилищ, переписывалась с ним, когда он был в Норен- ской, а 4 июня 1972 года провожала его в Пулковском аэропорту.
Но только вот: весь этот горделивый перечень ровно ничего не означает. Это простая цепь случайностей, и никакого, ни малейшего места в жизни Иосифа я не занимала. А он в моей, разумеется, огромную».
Здесь надо сделать два уточнения. Одно второстепенное — вряд ли Рада «присутствовала в зале» во время первого суда. В специально выбранную крохотную комнату пустили лишь несколько человек, формально представлявших Союз писателей, адвоката, Фриду Вигдорову с журналистским удостоверением и родителей Бродского. Остальные стояли на лестнице. Но это понятная аберрация памяти. Вообще же сила памяти Рады — поразительная.
Второе уточнение — принципиальное. Бродский был человеком, преданным своим друзьям. И, разумеется, Рада занимала свое место в его жизни. Но эта позиция — человека «из публики» — делает ее воспоминания особенно ценными, в силу того что она не подменяет собой главного персонажа. Однако и смотрит на него отнюдь не снизу вверх, несмотря на соответствующие декларации.
Рада пишет отнюдь не житие. Бродский у нее таков, каким он и был, — добрый и щедрый, резкий и несправедливый, твердо знающий свой путь и непоследовательный в оценках. Он мог, как вспоминает мемуаристка, скептически отзываться о замечательном поэте, но и назвать его через некоторое время «великолепным поэтом».
Рада Аллой занимает идеальную для мемуариста позицию — она не сливается с Радой тех лет, она видит картину целиком и со стороны.
Не столько нравственным, сколько интеллектуальным усилием она выводит Раду-мемуаристку за пределы вспоминаемых ситуаций, оставляя там юную Раду-участницу.
Этим объясняется сжатость воспоминаний, их концентрирован- ность. Каждая деталь играет свою значимую роль.
Эта лаконичность тем более удивительна, что рассказ идет не только о Бродском, но и о времени. Веселом времени нашей молодости, когда неприятие окружающего общественного и политического быта не мешало интенсивному и достойному личному бытию.
Некоторые сюжеты, важные для общей картины, только намечены в воспоминаниях. Например, история литературного кафе на Полтавской, председательницей Совета которого была инженер Рональда Зеленова (великий организатор, по сию пору много делающий для нашей литературной культуры), а «хозяйками» — Рада и Ира Емельянова (которой посвящено пронзительное стихотворение Бродского «Крик в Шереметьево»).
В кафе появлялись и читали стихи самые экзотические личности.
Были и фигуры для того времени крупные. Я помню выступление Николая Панченко, москвича, с талантливыми и жестокими стихами о войне, которую он прошел.
Надеюсь, что когда-нибудь будет написана уникальная для советской эпохи история кафе на Полтавской.