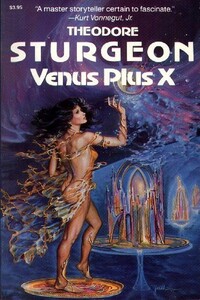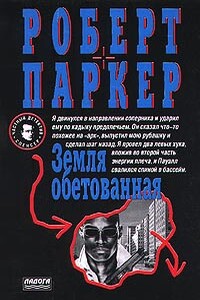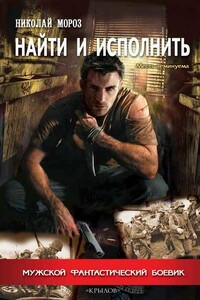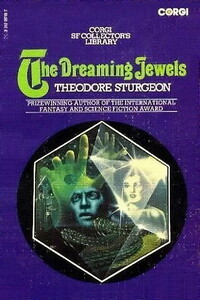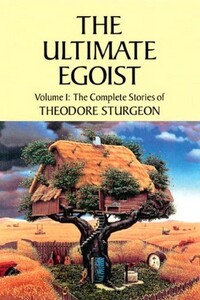— Я Чарли Джонс! — напрягаясь изо всех сил закричал Чарли Джонс. Чарли Джонс, Чарли Джонс!
Нельзя было терять ни секунды: всего важнее, абсолютно необходимо было заявить, кто такой Чарли Джонс.
— Я Чарли Джонс, — тихо повторил он, стараясь, чтобы голос звучал убедительно и авторитетно.
Никто не спорил с ним. Вокруг было тепло и темно, он лежал, подняв колени и охватив их руками, прижимаясь лбом к коленным чашечкам. Перед его плотно закрытыми глазами мерцали красные огоньки. Но главное — он оставался Чарли Джонсом.
«Ч.Джонс» — было написано фломастером на его шкафчике для обуви, «Ч.Джонс» — выведено красивым шрифтом на свидетельстве об окончании института, «Ч.Джонс» — печаталось на чеках к оплате. То же имя стояло в телефонном справочнике.
С именем все было в порядке. Да, в полном порядке, отлично, о'кей, но ведь человек — это не только имя. Допустим, мужчине двадцать семь лет, он видит свой привычный силуэт, когда бреется по утрам, любит приправлять соусом «табаско» яйца всмятку. Мужчина родился с двумя сросшимися пальцами на ноге и косоглазием. Он может поджарить отбивную, водить машину, любить женщину, размножать документы, он моется в ванной, чистит зубы, у него вставной мост на месте левого верхнего резца и клыка. Он часто бывает вне дома, а на работу опаздывает.
Чарли Джонсон открыл глаза — красные мерцающие огоньки исчезли напрочь, вокруг все тонуло в холодной серебряно-сизой дымке, напоминавшей след слизня на листьях сирени весной. Да, весна, о, прекрасная весенняя пора: прошлая ночь, женщина, Лора, она была…
Когда спускаются сумерки, вечера длятся долго — можно успеть так много. Как он упрашивал Лору разрешить ему занести ей пачку сценариев если бы мама могла это слышать! И внизу в затхлом Лорином подвале, где он, пробираясь в полутьме, с бумагами подмышкой, он наткнулся на петлю от валявшейся здесь старой шторы, порвал свои коричневые твидовые брюки и поранил бедро (ткань даже прилипла к коже). Но то, что было потом, действительно стоило всех этих неприятностей: нескончаемый вечер с девушкой — настоящей девушкой (она смогла доказать свою невинность) — и все время они занимались любовью! Конечно, весна, конечно, любовь! О ней, о любви твердили древесные лягушки, ради нее распускалась сирень, ею был напоен воздух. Он помнит, как на нем высыхал пот. Это было действительно прекрасно.
Хорошо переживать такие моменты, и весну, и любовь, но лучше всего помнить и знать это. И выше этих воспоминаний только воспоминание о доме, дорожке между подстриженных кустов, двух белых лампах с большими цифрами «6» и «1», нарисованных на плафонах черной краской (мама сама написала их вместо домовладельца — у нее всегда хорошо получались такие вещи), — цифры уже выцвели от времени, да и мамины руки тоже постарели. Прихожая с пестрыми медными почтовыми ящиками, занимавшими всю стену, звонки всех жильцов, решетка домофона, который был неисправен уже когда они въехали и эта массивная медная табличка, скрывавшая электрический замок — он много лет открывал дверь на ходу нажатием плеча…
В воспоминаниях вы добираетесь до самой сути, подходите все ближе и ближе — ведь так важно все помнить. То, что вы вспоминаете, — не столь важно; важно помнить. Вы можете помнить! Вы можете!
«…Ступени с первого этажа на второй были покрыты истертым до самой основы ковром, прижатым старомодными никелированными прутьями, по краям его лохматилась красная бахрома… Мисс Мундорф учила их в первом классе, мисс Уиллард — во втором, мисс Хупер — в пятом… Помнить все!»
Чарльз осмотрелся вокруг — все утопало в серебряном свете, стены не напоминали ни металл, ни ткань — нечто среднее между ними, и было тепло… Он продолжал вспоминать, лежа с открытыми глазами.
…На лестнице со второго этажа на третий еще оставались прутья, но уже не было ковра, и все ступени слегка прогнулись со временем; поднимаясь, можно было думать о чем угодно, а ступени скрипели «крак-крак», в то время как между первым и вторым этажом они пели «флип-флип» — и вы всегда знали, где находитесь…
Чарли Джонс вскрикнул:
— Боже, где я?!
Он разогнулся, перекатился на живот, подогнул колени и на мгновение застыл — силы его иссякли. Рот был сухой и горячий, как складки белья под утюгом матери, мышцы ног и спины мягки и немощны, словно вязанье матери, которое у нее за неимением времени никогда не кончалось.
…Любовь с Лорой, весна, цифры «6» и «1» на матовом фоне, нажатие плечом на табличку, «крак-крак» и «флип-флип» лестницы — конечно же, он может вспомнить и все остальное, потому что он входил в дом, ложился спать, вставал, уходил на работу… не так ли? Было ли все это?
Шатаясь, Чарльз выпрямился, все еще стоя на коленях. Не было сил держать голову, он нужно было отдышаться. Он смотрел вниз на свои коричневые брюки, как будто они могли рассказать ему о том, что с ним произошло. А произошло с ним явно что-то ужасное.
Так и оказалось.
— Коричневый костюм, — прошептал он.
На бедре брюки были разорваны (чуть ниже болела рана) — значит, он не одевался на работу утром. Вместо этого он оказался здесь.