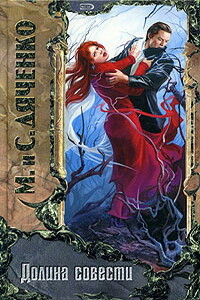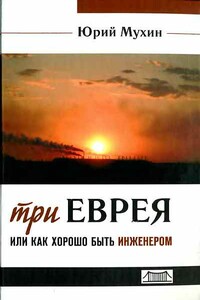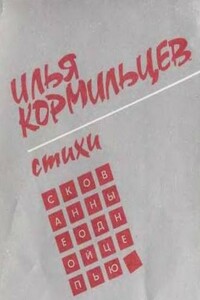В свое время крестный отец панка Малькольм Макларен снял фильм о том, как он удачно продал уличный бунт британских недорослей испуганной буржуазии, окончательно потерявшей веру в будущее после бурного финала революционных 60-ых, нефтяного кризиса 73-го и дебюта палестинского террора на Мюнхенской олимпиаде.
— No future, будущего нет! — орал Джонни Роттен, и испуганные хозяева мира вторили полушепотом: — Yes, yes, no future…
На этом совпадении спроса и предложения веснушчатый шотландец и заработал свои миллионы. А потом слил секрет своего успеха в циничной ленте Great Rock’n’Roll Swindle (Великое рок-н-ролльное надувательство).
Печальная история русского рока так пока, к счастью или к несчастью, не обрела своего Макларена, который снял бы сиквел под названием «Великое рок-н-ролльное надувательство-2» Ибо, как и в той британской истории, мы имеем дело со старинным филистерским трюком: конвертацией гнева поэтов в политический капитал власть имущих с последующей сдачей на расправу обманутой толпе сделавших свое дело мавров.
В чем обычно обвиняют русский рок его критики, выползшие внезапно, словно черви после дождя, на могиле покойного, о котором, казалось бы, успели позабыть даже ближайшие родственники?
Они обвиняют его в том, что он послужил одним из инструментов разрушения Советской империи. И они отчасти правы. Но самозваные судьи в своем надрывном пафосе (каковой обычно выдает пристрастность суда) забывают об одном немаловажном для юриспруденции понятии — понятии умысла — и забывают неспроста.
«I was framed! Меня подставили!» — восклицают в критический момент герои типичного американского криминального боевика. Вместе с ними мое поколение — поколение тех, кто делал русский рок — может с полным основанием воскликнуть: «We were framed! Нас подставили!»
Вернемся на двадцать пять лет назад.
Мы не знали советской власти такой, какой ее замышлял Сталин, не говоря уже о призрачных на тот момент тенях Ленина и Троцкого. Мы выросли и возмужали при Брежневе. С его птенцами нам и приходилось иметь дело. Именно о них были наши ранние песни — о комсомольских цыплятах с оловянными глазками, веривших только в джинсы и загранкомандировки. О бездуховности и смерти веры. О войне против будущего во имя животных радостей настоящего — потных лобков млеющих комсомольских подруг в обкомовской бане. (Мне не хочется сыпать цитатами: пусть тяжесть доказательства противного лежит на обвинителях. Пусть они найдут хоть одну антисоветскую строку в доперестроечном русском роке — и я возьму свои слова обратно.)
Реакция на развертывающийся у нас на глазах процесс обуржуазивания была спонтанной и синхронной — это была стихийная реакция юных идеалистов на наличную фальшь социума. Типичный, как сказали бы сейчас, сетевой процесс. Узлы возникали, не подозревая о существовании друг друга, и только потом устанавливали между собой горизонтальные связи — на уровне двора, города, страны. Устанавливали медленно: так о существовании питерского андерграунда мы узнали в 1983-ем, когда у нас у самих за плечами было уже по несколько созданных групп и записанных альбомов.
В силу сетевой природы процесса каждый центр кристаллизации того, что позже получило название «русского рока», имел свою, отчетливо выраженную специфику: Питер наиболее был связан с западными веяниями, Москва никогда не могла до конца изжить свое родство с кухонными бардами предыдущего поколения, мы же (и сибиряки) были дики и безродны как Гог и Магог. Запад мы, конечно, уважали, но примерно как древние греки своих богов — без пиетета. Барды были нам точно не родня — Высоцкого (и Северного) сдержанно уважали, за упоминание же об Окуджаве или Галиче можно было конкретно получить в хлебало. Антисоветчина — что сам-, что тамиздатовская — вызывала однозначную враждебность.
Помню типичную сцену из поздних 70-ых: баня на задворках дачного участка, бутылка «Эрети», приемник «Спидола», напряженное вслушивание в лирический оргазм Роберта, скажем, Планта, пробивающийся через рев глушилок. И вдруг — Whole Lotta Love заканчивается, сразу же унимаются глушилки (да, да — их врубали в основном на музыке — за работу, господа конспирологи!) — и в эфире возникает квакающий эмигрантский голос, докладающий, говоря стихами Емелина:
«Про поэтов на нарах,
Про убийство царя
И о крымских татарах,
Что страдают зазря…»
И тут же чей-нибудь ленивый вопль: «Дюха, выруби этого козла, поищи еще музон!» Так что маленькая хитрость мистера Бжезинского не срабатывала: караси, обглодав мякиш, выплевывали крючок. (Или именно так и было задумано? Это нам объяснят конспирологи, которые, как известно, всегда правы.)
Когда мы перестали слушать чужой музон и начали делать свой, мы понесли его на показ советской власти — во-первых, потому, что нужно было получить литовку, во-вторых, потому что для нас это было не в большей степени походом в логово врага, чем для Мальчиша-Кибальчиша — визит в штаб Красной Армии. Нет, разумеется, мы не были тотально наивны — мы уже имели к тому моменту приличный опыт столкновения с мутноглазыми цыплятами, но считали, что у власти этот бесстыжий курятник тоже должен был вызывать некоторое беспокойство.