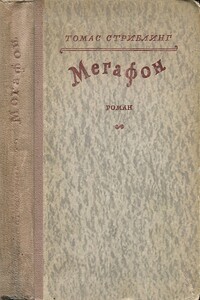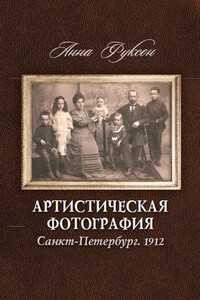Действие нашего повествования начинается на просторах Понта Эвксинского, недалеко от берегов скифской Тавриды. В жаркий полдень при полном штиле по сверкающей чешуе моря медленно ползло судно, лениво шевеля рядами длинных весел. Его мачты были оголены, паруса свернуты. Змеевидные флаги бессильно висели на верхушках мачт. На одном из флагов можно было разглядеть эмблему Понтийского царства, герб персидской династии Ахеменидов, – горизонтально лежащий полумесяц, охвативший своими рогами солнце. Однако корабль был не понтийский, а гераклейский. Эмблема на его флаге обозначала подчинение Гераклеи царю понтийскому.
Значение Понтийского царства на Эвксинском Понте было тогда велико и все возрастало. Оно было подобно значению Рима на Средиземном море. И суда, плавающие под эгидой Понта, пользовались его защитой и покровительством, а поэтому их встречали во всех портах с особым уважением.
Корабль носил греческое название «Евпатория», также, по-видимому, в честь юного, но не по летам мудрого царя Митридата Шестого, уже прозванного Евпатором. Внешний вид судна как бы символизировал собою слияние двух культур: западной, идущей из Эллады, с местной малоазийской культурой. Его носовые украшения выглядели причудливо. Они состояли из львиных голов, оформленных в восточном вкусе, позолоченных, с ярко-красными широко раскрытыми пастями. Палубные надстройки выглядели проще и не имели той аляповато-пестрой расцветки, которая всегда была по душе азиатским судостроителям. Две невысокие рубки соединялись помостом – верхней палубой. На задней рубке находилось рулевое управление, обслуживаемое тремя матросами, полуголыми и опаленными солнцем. На передней – место кибернета, фактического капитана корабля. Под верхней палубой – более сотни гребцов, сидящих в три яруса на скамьях вдоль бортов, с проходом между ними.
Эллины более далекого прошлого брали гребцами на свои корабли наемников из беднейшего класса «фетов» и «метеков», которые получали за свой тяжелый труд условленную плату и считались свободными людьми. «Евпатория», по восточному обычаю, заменила свободных гребцов рабами. Правда, это имело свои неудобства – за рабами требовался неусыпный надзор. Но не следует забывать, что колонии, подобные Гераклее, не имели такого обилия незанятых рабочих рук, как Афины или Коринф. Их население еще не успело выделить из своей среды голодных толп бродячего люда, не имеющего постоянного заработка. Даже беднейший здесь занимался каким-нибудь ремеслом и спал у собственного очага. Поэтому рассчитывать на вольный наем желающих пойти на каторжную работу за веслом не приходилось. Гребцы на кораблях припонтийских греческих колоний были рабами, закованными в цепи, как преступники.
Тяжелый, тошнотворный дух потных, давно не мытых человеческих тел чувствовался и на верхней палубе, где под полосатым тентом, изнывая от жары, сидели немногочисленные пассажиры корабля – гераклейские купцы. Они везли в трюме груз вина, цветных тканей, бронзовой посуды и железных изделий для продажи скифам.
Ветра не было, солнце накалило просмоленные доски. Тишину знойного полудня нарушала своеобразная музыка. Ведущую партию исполнял флейтист. Он сидел на свертке каната за задней рубкой и лениво насвистывал две ноты: высокую, по которой три ряда весел поднималось вверх, и низкую, служившую сигналом для опускания весел в воду. При подъеме широких еловых лопастей тускло звенели цепи. При опускании они тоже звенели, но как-то по-иному. К этому присоединялось надсадное уханье, болезненный стон, вырывавшийся из охрипших глоток.
Так повторялось с железным ритмом через равные промежутки времени. Размеренный скрип тяжелых уключин дополнял эту печальную симфонию рабского труда, исполняемую гребцами-кандальниками. Иногда звонкое щелканье сыромятного бича напоминало о насилии и жестокости управлявших многорукой живой машиной. Но беспощадность в обращении с невольниками считалась не пороком, а достоинством, единственно правильным способом заставить их работать скорее и лучше. Снисходительность и мягкость, проявленные хозяином по отношению к рабу, вызвали бы недоумение, насмешки, а затем и презрительно-гневное осуждение со стороны всего общества, были бы расценены как подрыв основ общественного благосостояния.
По-видимому, именно так думали и те, которые сидели на верхней палубе, вытирая лбы рукавами. Их не тревожила печальная музыка рабских цепей, наоборот, она нагоняла на них сонливость своим ритмом. И тяжелые испарения, идущие снизу, не казались им неприятными. Каждому рабовладельцу привычен дух эргастерия – тюрьмы рабов и места их печального труда.
Из-под носовой рубки вынырнул келевст – судовой тюремщик, гроза невольников-гребцов, не расстающийся с сыромятным бичом, пропитанным человеческим потом и кровью. Он почесал ручкой своего страшного инструмента костлявую плоскую спину, потом не торопясь вытер полою распаренное морщинистое лицо. Мертвыми, бесчувственными глазами обвел горизонт, послюнил грязный шишковатый палец и повертел им над головою.