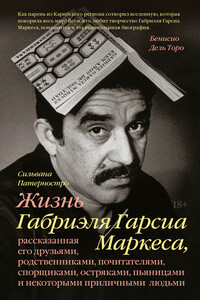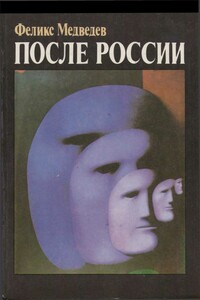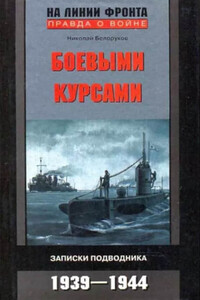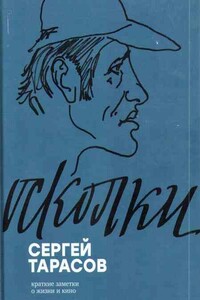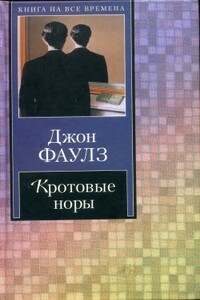Сестра Мари-Анж, когда я увидела ее снова спустя несколько лет, показалась мне очень молодой. Казалось, она даже помолодела с тех пор, как я видела ее в последний раз. Я поняла, в чем тут дело — ребенку все взрослые кажутся очень взрослыми, для девушки-подростка все женщины постарше ее самой — старухи, и только сейчас я смогла уловить, что сестра Мари-Анж совсем еще молодая женщина с серыми глазами, по-детски мягкими чертами лица и вполне соответствующей духу современности едва-едва развившейся фигуркой.
В моем восприятии изменилось все, но то, как сестра воспринимала меня, осталось неизменным.
— Малютка Катрин! — сказала она, протянув ко мне руки благословляющим, укрывающим жестом, точно на мне был не модный дорожный тайлер, а приютское платье с передником, точно мои волосы и не были коротко острижены и продушены новомодными духами и табаком, а заплетены были в толстую косу, из которой всегда выбивался один непослушный локон, и сестра Мари-Анж заправляла мне его за ухо. — Малютка Катрин вернулась!
Мы обнялись, потом отстранились друг от друга, жадно друг на друга глядя, пытаясь уловить произошедшие в нас изменения. Потом сестра обхватила меня за плечи и повела к воротам:
— Ты так изменилась, однако я сразу узнала тебя, — сказала мне моя воспитательница.
Да, я изменилась, но и обитель тоже изменилась — каким умалившимся мне показался двор! Я въехала сюда в блестящем автомобиле, а когда-то гуляла здесь с подружками, такими же сиротами, чьи руки и летом и зимой покрыты были цыпками, носы шмыгали, чулки сползали. Двор назывался садиком из-за нескольких кустов жасмина, которые, впрочем, с тех пор дивно разрослись, а настоящий монастырский сад, «старый», огорожен каменной стеной, выложенной из глыб песчаника. Стена и тогда была увита шершавым плющом, и теперь тоже. Но она вроде бы стала пониже, а раньше казалась мне неприступной. Впрочем, я все же перелезала через нее — по крайней мере, один раз точно пыталась штурмовать, и это плохо для меня закончилось.
— Хочешь взглянуть на дортуар?
Я и в детстве была уверена, что сестра Мари-Анж умеет читать мысли, и теперь только убедилась в этом совершенно. Мы прошли через двор, через длинный коридор, на каменном полу которого лежали горячие пятна света, льющегося из высоких стрельчатых окон, и это вдруг напомнило мне какой-то давний, забытый сон. В дортуаре кровати, как мне показалось, еще больше сдвинулись, точно испугались моего прихода и прижались друг к дружке, дрожа. Пятнадцать совершенно одинаковых кроваток, и все же по каждой из них можно кое-что сказать о характере пансионерки. Вот на этой кровати, что у окна, спит старшая или очень уважаемая товарками девочка, потому что место такое, завидное. А здесь подушка поставлена уголком и из-под нее виднеется целлулоидный гребешок и розовая ленточка — тут гнездится кокетка. А тут неряха — одеяло все в складках, а наволочка в пятнах и явно испачкана домашним печеньем — несносная девчонка ест в постели.
— Можно? — спросила я у сестры, указывая глазами на свою кровать, пятую во втором ряду.
Она с улыбкой кивнула.
Я осторожно присела на серое марсельское одеяло, на котором не было ни одной складочки.
— Кем бы ни была девочка, спящая тут сейчас, кровать она заправляет лучше меня.
— Ты всегда прекрасно заправляла кровать, — возразила Мари-Анж. — Ты и Рене. На ваши постели приятно было посмотреть.
— Это потому, что я заправляла и свою, и ее постель, — объяснила я.
— А, — улыбнулась сестра. — Что ж, боюсь, от Мишель, которая спит на твоем месте, соседки такой милости не дождутся. Она очень строга к недостаткам окружающих — как и к своим. Но ты ведь приехала не затем, чтобы поговорить о наших новых пансионерках, так ведь?
— Может быть, и затем, — улыбнулась я.
Но сестра Мари-Анж не ответила на мою улыбку на этот раз. Глаза ее стали печальны. Она сказала:
— Что-то гложет тебя изнутри, дитя мое. И ты такая худенькая, такая бледная.
— Я никогда не была жизнерадостной толстушкой, — усмехнулась я, но сестра покачала головой.
— Думаю, нам нужно поговорить. Сейчас некогда — девочки вернутся из школы, прозвонят к обеду, потом у меня будут еще дела. А тебе не мешало бы отдохнуть и вымыться. Дорога ведь была очень утомительной? У тебя пыль на лице. После обеда ты можешь привести себя в порядок в моей комнате и там же немного поспать. А вечером, когда воспитанницы угомонятся, мы сможем поговорить.
У меня сжалось горло, и я сказала:
— Спасибо.
— За что? — удивилась викентианка. — Ты вернулась домой. Ты можешь делать все, что тебе угодно.
Если бы я не была так изнурена, я бы заплакала от умиления.
А потом я услышала голоса девочек, вернувшихся из школы, веселые детские голоса, в числе которых могли зазвучать и наши с Рене. Из кухни вкусно пахло, в столовой гремели посудой, и я, наскоро вымыв руки и ополоснув лицо, пошла туда.
— Не могли бы вы дать мне передник? — попросила я у незнакомой мне девушки, которая ловко нарезала хлеб за дубовой стойкой. Раньше здесь заправляла краснощекая, веселая госпожа Матье. Она прикрикивала на нас, когда мы помогали ей в столовой, но жалела меня и украдкой совала в карман фартучка поджаристые горбушки. У этой девушки, пожалуй, горбушки не допросишься — вон как сурово сдвинуты ее тонкие брови…