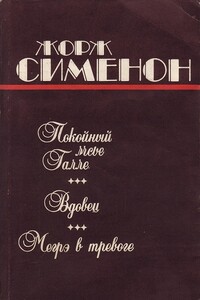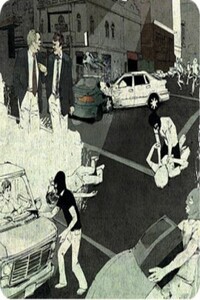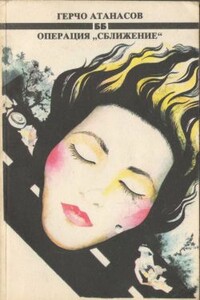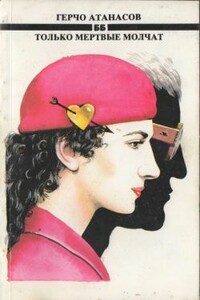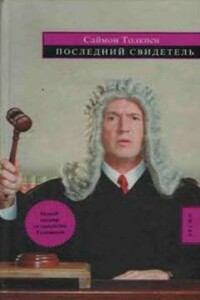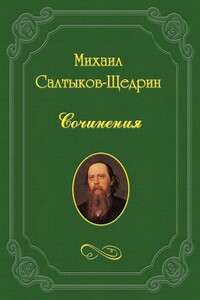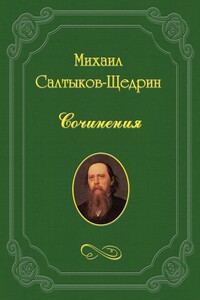Он также мало предчувствовал все это, как те пассажиры, которые за несколько секунд до крушения поезда обедают в вагоне-ресторане, читают, болтают, дремлют или любуются мелькающими за окном пейзажами. Он шел по Парижу, не удивляясь тому, что город с каждым днем выглядит все более пустынным. Так ведь бывало каждый год в пору летних отпусков — те же томительно-жаркие дни, то же неприятное ощущение липнущей к телу одежды.
В шесть часов вечера он все еще пребывал в состоянии какой-то отрешенности, в каком-то вакууме. Что мог бы он ответить, если бы его внезапно спросили, о чем он думает, когда своей раскачивающейся походкой широко ступает по тротуару, на целую голову возвышаясь над большинством прохожих.
Что видел он на своем пути, пока шел с улицы Франциска Первого, где более часа провел в отделах редакции, обсуждая свои макеты, до предместья Сент-Оноре, где получил деньги, потом до типографии Биржи и, добираясь, наконец, домой, к воротам Сен-Дени?
Ему трудно было бы ответить на этот вопрос. Да, конечно, он видел машины туристов, больше всего около церкви Мадлен и у Оперы. Он знал это, потому что сейчас был сезон туризма, но ни одна из них не привлекала его внимания, и он не мог бы сказать, какого цвета они были. Должно быть, синие, красные, желтые. А на тротуарах — мужчины без пиджаков, без галстуков, в рубашках с короткими рукавами, с распахнутым воротом. Среди них попадались американцы в белых или кремовых костюмах.
Он не запомнил ничего определенного. Хотя нет, кое-что запомнил. На улице Четвертого Сентября он в первый раз остановился, чтобы вытереть пот. Он сильно потел и всегда носил один и тот же костюм — и зимой, и летом. От застенчивости, из скромности, он сделал вид, будто рассматривает витрину, случайно оказавшуюся витриной шляпного магазина, и взгляд его упал на канотье, единственное, которое там было, и напомнившее ему канотье, какое носил его отец в Рубе в те далекие времена, когда по воскресеньям еще водил своих детей гулять, держа их за руки. На миг он задал себе вопрос, не придавая ему, впрочем, особого значения, — уж не вернулась ли мода на канотье, не поддастся ли он ей, и если да, то как он будет выглядеть в этом головном уборе.
Второй раз он остановился перед красным огнем светофора и в веренице медленно движущихся машин проследил взглядом за человеком, катившим ручную тележку с ящиком таких размеров, что в нем могло бы уместиться пианино. Несколько секунд мысли его были заняты пианино, потом он заметил девушку, которая сидела одна в огромной открытой машине, и покачал головой — на девушке почти не было одежды.
Он не связывал эти образы между собой, никак не осмысливал их. Конечно, он видел столики кафе на тротуаре, проходя мимо, ощущал всякий раз запах пива. Но что еще мог бы он вспомнить, если бы даже очень постарался? Он как бы и не жил в те часы.
А в своем квартале, где все было ему еще более привычно, где все вокруг примелькалось, — здесь он уже вовсе ничего не видел.
В свою квартиру на третьем этаже дома по бульвару Сен-Дени, расположенного между пивной и большим ювелирным магазином, торгующим часами, он мог попасть через два разных входа. Он мог войти со стороны бульвара. Под низкой сводчатой аркой, совсем рядом с пивной, мрачный, сырой проход — с улицы даже не сразу замечали его — вел в мощеный дворик площадью два на три метра, где за грязными стеклами у консьержки круглый год горела лампа.
Он мог войти и с улицы Сент-Аполлин и, миновав мастерскую упаковщика, пройти коридором, который был все-таки больше похож на вход в настоящий дом.
Если бы несколькими месяцами позже, где-нибудь, к примеру в Суде Присяжных, его спросили, каким из этих двух входов он воспользовался в тот день, и от его ответа зависела бы чья-то жизнь или смерть, он вряд ли смог бы показать под присягой, какой именно дорогой он шел.
Этого не случилось. Такой вопрос не возник. Избранный им путь не имел значения, как и то, сидела в это время консьержка в своей конуре или нет.
Лестница была темная. Одни ступеньки скрипели сильнее, другие — слабее. Он хорошо знал их. С незапамятных времен он знал эти уныло-желтые стены и две коричневые двери на втором этаже. На правой была эмалевая дощечка: Мэтр Гамбье — судебный исполнитель. За левой всегда слышался смех, обрывки песен. Иногда ему случалось видеть эту дверь открытой, и он знал, что десяток молоденьких девушек лет пятнадцати-шестнадцати работают там — делают искусственные цветы.
Он поднимался по лестнице тем же медлительным размеренным шагом, каким шел по улице. Те, кто думал, будто он старается таким образом придать себе внушительный вид, ошибались. Его походка не зависела также ни от его комплекции, ни от его веса. Он приспособился ходить так лет в двенадцать, когда ему надоело слышать от товарищей, что он колченогий.
— Почему вы не отдадите его в сапожники? — спросила при нем однажды у его матери одна из соседок. — Большинство хромых становятся сапожниками.
Он не был по-настоящему хромым. Просто одна ног была у него от рождения короче другой, и еще в детстве родители купили ему ортопедические башмаки, причем на одном из них имелась металлическая подковка.