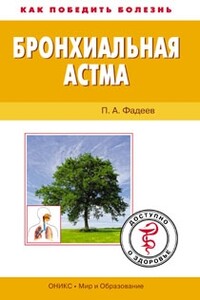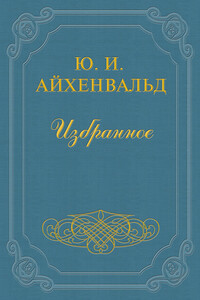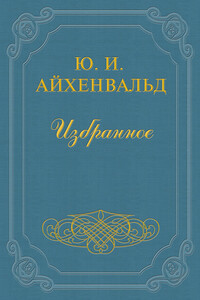Брюсов – далеко не тот раб лукавый, который зарыл в землю талант своего господина: напротив, от господина, от Господа, он никакого таланта не получил и сам вырыл его себе из земли упорным заступом своей работы. Музагет его поэзии – вол; на него променял он крылатого Пегаса и ему сам же правильно уподобляет свою тяжелую мечту. Его стихи не свободнорожденные. Илот искусства, труженик литературы, он, при всей изысканности своих тем и несмотря на вычуры своих построений, не запечатлел своей книги красотою духовного аристократизма и беспечности. Всегда на его челе заметны неостывшие капли трудовой росы. Недаром он на разные лады воспевает «суровый, прилежный, веками завещанный труд» и так прекрасно говорит о наследниках Микулы, век за веком проводящих свои борозды, —
А древние пращуры зорко
Следят за работой сынов,
Ветлой наклоняясь с пригорка,
Туманом вставая с лугов.
Его утешает мысль, что, пусть исчезнет с лица земли безвестный египетский раб, —
Но не исчезнет след упорного труда,
И вечность простоит, близ озера Мерида,
Гробница царская, святая пирамида.
Брюсов, один из рабов поэзии, помогает ценить и чувствовать красоту и бессмертие труда, его космическую роль, его мировую преемственность и необходимость; как и для Базарова, природа для него не храм, а мастерская. Но это находится в связи с тем, что сам он, чуждый легкости и грации, с душою принужденной и напряженной, поэт без поэзии, пророк без вдохновения, с глубокими усилиями пробирается через словесные теснины. То, что и великие поэты работали над стихом, – это раскрывается лишь взору специалиста-исследователя, это мы узнаем только из их рукописей; между тем как у Брюсова об этом с нескромной и губительной для автора откровенностью говорит самое звучание его страниц, и показывает оно, что в муках рождения, в поте лица своего создавал он не только форму, но и самую концепцию, самое ядро своих стихотворений. Над всеми способностями духа преобладают у него прилежание и рассудок, и сухое веяние последнего заглушает ростки непосредственности и живой, святой простоты. Его стихи, лишенные стихийности, не сотворены, – они точно вышли из кузницы, и даже мгновенья, свои излюбленные «миги», Брюсов кует. Он не опускается в лоно бессознательного, в темные недра бытия; не великие матери природы вскормили его искусственное искусство. Чрезмерно внимательный к самому себе, слишком свободный от пленительного греха наивности, совершенно не разделяя пушкинского мнения, что поэзия должна быть «глуповата», он помнит себя и свою душу до мелочей. Свой собственный критик и комментатор, он в бесчисленных предисловиях и послесловиях, отягощающих слова, классифицирует и квалифицирует себя, заботливо распределяет себя по рубрикам и из прежних стихов своих бережливо нарезает эпиграфы для своих же новых произведений. Он собою обязал себя. Своей поэзии точно ведет он приходо-расходную книгу, и не столько он поэт, сколько занимается поэзией. Как в притворном безумии Гамлета, в его преднамеренном художестве видна система, и не убраны громоздкие леса методы. Специалист искусства, не только он, явно для всех, поставил ему подножием ремесло, как Сальери, но и оцепенел в своей эстетической профессиональности, и в самой широте своих сюжетов и сведений оказался узким, проявил нечто тесное и тупое, – поэт-педант.
Сознательное, слишком сознательное в Брюсове царит настолько, что он не ошибается насчет себя, свою окоченелость сам замечает и даже возводит ее в канон. Это характерно, что в его стихах мы часто находим слово «стынуть»: он стынет и на нежном ложе, и у дверей рая, и в жизни вообще. Он – певец холода; но поэзии холода, его белой красоты, мы однако не видим у него. Он говорит о себе:
Как царство белого снега,
Моя душа холодна,
и ему кажется, что это красиво и величественно, и строго; на деле же у него – одна неприютная стужа. И только словом, неприятным словом является любимая гостья брюсовских стихов – «дрожь», всякая «бессильная дрожь» и «дрожь бесполезная». Он не сумел, как ему больше всего хотелось бы, сочетать в одно целое огненность и лед. И когда он, вслед Viele Griffm'y, хвалится тем, что «из жизни медленной и вялой сделал трепет без конца», когда он взывает к художнику: «сделай жизнь единой дрожью», когда он, в тяжелом обращении, заказывает сердцу: «трепеты, сердце, готовь», – то этот сделанный трепет, эта жизнь, превращенная в судороги, эта искусственность волнения не вызывают даже иллюзии живого. Пусть Брюсов поэта ставит высоко, требует от него подвига и страдания («в искусстве важен искус строгий», «искусство жаждет самовластья»), но еще важнее, чтобы художник был живым сосудом жизни. Между тем наш писатель от себя и своих собратьев по лире ждет преимущественно – холода: «всего будь холодный свидетель», т. е. вынь из своей груди тот угль, пылающий огнем, который некогда водвинул пророку шестикрылый серафим. Симпатично то, что Брюсов о поэзии повторяет слова Каролины Павловой «мое святое ремесло»; но совсем не привлекают его чрезмерная и методическая преданность музе и то, что он каждый трепет «вместить стремился в стих», и это признание его: