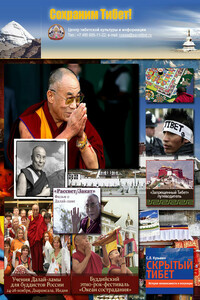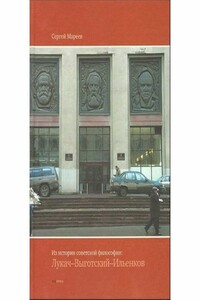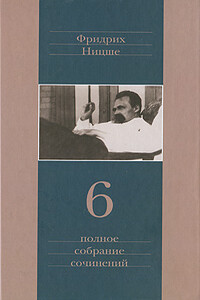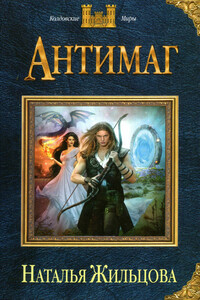Как пишущий по религиозным вопросам, я н у ж д а ю с ь в свободе. Было бы странно спрашивать, ж е л а ю л и я е е. Мы нуждаемся в хлебе и желаем его. Богослов, рецензент моей книги «В мире неясного и нерешенного», предпосылает разбору ее у д и в л е н и е, как она прошла через цензуру. Стало быть, в свободе я нуждаюсь и свободу я люблю. Но одно дело — любить, а другое — понимать. На вековечную жажду свободы Церковь вековечно отвечала отказом. Легкие передышки в смысле свободы длились минуты, и на минуту свободы приходилось столетие несвободы.
Есть, кажется, тенденция объявить это «случаем». Таково было настроение на Рел. фил. собраниях 1903—1904 гг., и его провозгласителем тогда торопливо заявил себя Д. С. Мережковский. Но я позволяю себе сказать, что таковое пожелание теперь уже несколько поздно, и нравственное чувство солидарности человеческой требует признать, что в самом корне веры нашей не содержится принципа свободы этой веры; что мы действительно «понуждаемся войти», compellimur intrare, на «вечерю» Жениха, и только перед дверью входа делаем «bonne mine au mauvais jeu»[1] и заявляем, что это мы «сами» и без понуждения идем. Но обратимся к разбору.
* * *
В Евангелии п р я м о г о указания на физическое касание и вообще телесную угнетенность «отщепенцев» и «сопротивляющихся» — нет. Но предпосылки для него — есть; малые, большие, вообще все — вплоть до самого вывода, весь силлогизм: только без конечного заключения. И от Августина, преследовавшего монтанистов, до нашего времени. Церковь, р а з р а б а т ы в а в ш а я Евангелие и вникавшая в него в н и м а т е л ь н е е, чем л ю д и с о с т о р о н ы, впадала невольно в эти предпосылки, приставляя к ним, в сущности, уже коротенький факт преследования. От подробностей этого преследования, иногда не по времени жестких, она поправлялась; извинялась за них; но это — более в глазах мира; от существа же его никогда не отступалась — в Германии, у католиков, у славян и греков, везде, где проповедано «лето благоприятное». Грубо и элементарно говорят: «Христос не преследовал». Но Он и не женился: а нам жениться можно. Отсутствие совпадения с Христом еще ничего не доказывает: «что можно Богу — не всегда можно человеку». Христос бесспорно повелевал стихиям, людям, бесам. А повеление Бога есть п о н у ж д е н и е мира. Люди, повелевая, еще н и ч е г о н е д о с т и г а ю т: тогда они прибавляют понуждение — и факт с о в е р ш а е т с я. Божий путь течения фактов — ибо история есть продолжение и восполнение природы — у человека совершается при некотором телесном напряжении: а Бог «все сотворил словом». Мы не боги, а жить как-нибудь нужно. Глаголы наши не творческие, и мы прибегаем к делу. В изречении Иисуса: «Никто не может прийти к Отцу токмо как через Сына», я нахожу предпосылку, уже введшую в узкий путь не только духовного, но и телесного стеснения. Если ни к Отцу нельзя прийти, ни к Сыну не приходить: то с чем останешься? Без Бога. Это — ужас. Прежде, взирая на природу, — узнавали Бога; из недр своих познавали же Его. Но теперь все кончилось: «Аще не родишься водою и Духом — не можешь войти в Царствие Небесное». Отрезанность от Бога «токмо как через Сына», все в свою очередь передавшего «Петру», — создала иерархию, перед дверями которой заметалось человечество; а иерархия и сердобольно, и сурово понудила, да и самым положением своим понуждается «заставить их войти». Прежде на звезды посмотришь, на лилии полевые — и захочешь помолиться, и сумеешь помолиться. Теперь всему можно только научиться у священника, «право правящего слово». Вне его — темь, небытие. Не «что-нибудь» остается человеку, а — ничего. «Кого не развяжете — и не будет развязан». Не нам эти слова сказаны. А выслушавшая их иерархия не могла не проникнуться самоощущением, о коем не нам судить. Не имея путей к «Петру» и через него — «к Сыну», мы остаемся лишь с ботаническими растениями и физическими звездами; впадаем в животное состояние, в стихийную неблагоустроенность, из которой как не вырваться?! как не должна усилиться вырвать нас иерархия?!! В линии религии мы остаемся, как политик — без государства, медик — без пациентов, писатель — без книгопечатания. Это — такая «мель», с которой всяческими усилиями нужно стащить человека. Ночь вне иерархии. Тьма — вне церкви. Какое средство тягостно, больно, чтобы вырваться отсюда? И ребенок кричит, ему больно — когда рождается; но через боль он входит в жизнь. И когда в религиозную жизнь никаких нет путей, кроме одного, человек если не входит, то проталкивается в него. Ущемляется, кричит — но проталкивается. В словах «Ты еси Петр» и «не приходят к Отцу токмо как через Сына» — я нахожу сужение путей веры, доведение его до единственного. Тропка вьется через Сахару; одна; по сторонам ее — костяки погибших. В этом, так сказать, закрытии таможенной линии, кроме одного пункта перехода «в свет», я нахожу достаточную причину для религиозной уторопленности, ужаса, давки и смятения в одной точке, подробности которых и составили «преследования». Ведь до этого «одного пути» в мире вовсе не было религиозных преследований. Не было самого этого понятия. Архимандрит Антонин сделал ошибку относительно евреев: у них не было прозелитизма; пророки говорили иногда всем народам — ибо Бог над всеми ими,