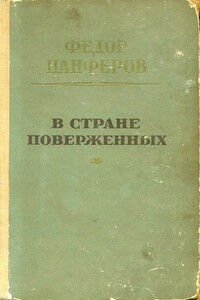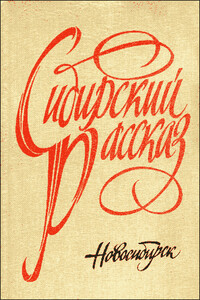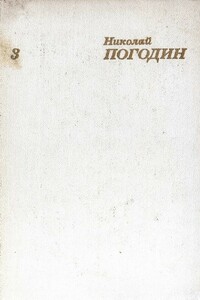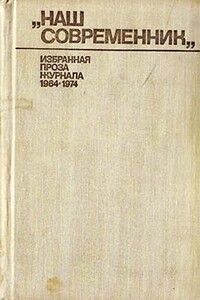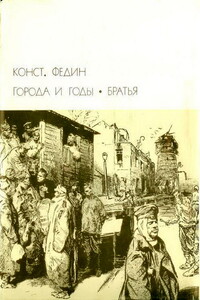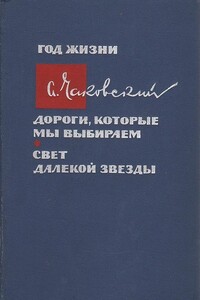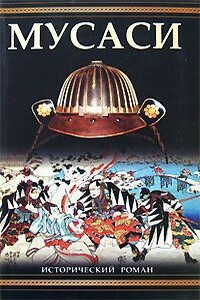1
Шла весна…
В лесах еще пыхтели сырые мхи, чавкали под ногами зверя мочежины, но поля уже подсохли, покрылись тонкой коркой, и по ним забегал бездомный ветер. Вот он налетел на столетнюю сосну, встряхнул ее так, что она вся заскрипела, а затем, покрутившись у ее подножья, приминая сыроватую осыпь побуревших игл, кинулся на осину, пригнул ее и со всего разбега начал мять и давить сорняки-травы, одновременно задирая на тощих грачах черное перо.
Грачи прилетели совсем недавно и, будто монахи, рассыпались по полям, высматривая пахаря: на свежей борозде пища.
Пахарь не появлялся, а земля черствела, как черствеет хлеб…
Весна! Весна!
Она пробивается всюду: через прошлогоднюю листву зеленями трав, через пушистые почки вербы, липы, березы… и распаренная солнцем земля зовет Петра Хропова домой — в Белоруссию, где он четыре года проработал агрономом.
Он даже видит: вон отправляют в поле сеялки, семена, следом за ними двинулись отремонтированные, обновленные тракторы, а из конюшни Настя, дочь вдовы Варвары, выводит коня в бело-черных пятнах.
Конь застоялся за зиму и теперь, чувствуя весну, дрожит всем телом, вытягивает морду, вбирая воздух красными, как кумач, ноздрями. Настя запрягает его в борону, опрокинутую вверх зубьями, кладет ему на спину широкие вожжи, похожие на ламповый фитиль, — и конь, приплясывая на все четыре точеные копыта, тронулся с места. Тронулся и призывно заржал, как бы оповещая своих собратьев о том, что весна наступила в самом деле и теперь ее вспять не повернешь.
Ах, Настя, Настя!
Разве Петр Хропов забудет, как вместе с ней в раннюю весну ходил по лесным тропам! Тропы устланы своеобразным ковром — пожелтевшим листом клена. Идешь, а лист пристает к ногам. Повернешься — и видишь свой след. Свой и ее — Настин.
— Товарищ агроном, красота какая: клен набухает почками, — затаенно шепчет Настя.
Она так и зовет его: «товарищ агроном», а ему хочется, чтобы Настя сказала: «Петя».
Весна! Весна… и Настя!
Задыхаешься от радости!
Лицо Петра Хропова молодеет, поэтому кажется: широкая золотистая борода нарочно приставлена к подбородку. В этот миг, глядя на него, можно сказать: «красивый парень». Но вдруг его лицо снова тускнеет, глаза становятся злыми, неподвижными.
— Чорт бы их сожрал со всеми потрохами, — проворчал он и на легкий, еле уловимый скрип веток круто повернулся: к нему неслышным шагом, будто по воздуху, приближался отец, Иван Хропов.
Понимая, кого «стеганул» сынок, старик все-таки спросил:
— Кого это ты, Петя, с потрохами к черному-то послал?
— Не знаешь? — Петр Хропов тронулся было в сторону партизанского становища, но отец остановил его:
— Эх, весна-то какая!
— Не береди.
— Чего уж там «береди». Одно могу сказать, будто в гроб ее заколотили, землю. А она живая: стонет. Слышишь? Гудит и гудит.
— Придет время — вспашем.
— Придет! Когда еще придет!
— Не ной. Оставался бы дома: никто силой не тянул.
— Да ведь и вас всех не на аркане.
— Ладно. Перестань. А то мы с тобой заскулим — за нами заскулят все: одни соскучились по земле, другие — по фабрикам, заводам, третьи — по школам и университетам… Как у тебя там кони?
— Порядок стопроцентный.
— Иди приготовь Савраску: генерал меня вызывает.
— Ну! Сам?
— Нет. Лик его. Чему обрадовался?
— Да как же! Генерал зовет, — и Иван Хропов, семеня ногами, направился в глубь леса.
Петр Хропов еще некоторое время смотрел в синеющее небо, на поля, затем все его сильное, сбитое тело потянулось, хрястнуло в суставах, и он зло бросил:
— Всю душу изранит такая весна.
2
Вскоре, следом за отцом, с опушки скрылся и Петр Хропов. Он шагал, пересекая лес, овраги. Иногда дорожка разбивалась на несколько троп, но он выбирал нужную, зная, что все вокруг заминировано, а мины тщательно замаскированы.
Выйдя из лесу на полянку, он остановился. Отовсюду на него смотрели черные зевы блиндажей, землянок, крыши которых были покрыты весенней серостью, словно рыбацкими сетями. Много их тут — землянок и блиндажей. И с каждой неделей все прибавляются: люди в отряд идут со всех сторон. Идут измученные, изможденные, повидавшие смерть. Всех, кто неспособен носить оружие, Петр Хропов отправляет в глубь Брянских лесов, где расположился центр партизанского соединения под командованием генерала Громадина, человека дотошного и кропотливого.
«Дотошный, именно дотошный», — с чувством гордости к своему генералу думает Петр Хропов, невольно останавливаясь глазами на блиндаже под березками, вспоминая то, что произошло здесь совсем недавно.
В январе тысяча девятьсот сорок третьего года Петр Хропов, вернувшись из обхода, задержался почти на этом же самом месте и увидел, как девушка Глаша, потерявшая родителей где-то под Смоленском, вывела из блиндажа Татьяну Половцеву. На той была беличья шубка-коротышка, пуховый платок, на ногах — унты. Лицо у нее свежее, даже с румянцем. Кажется, она совсем здорова, но идет, ведомая за руку Глашей, как лунатик.
В состоянии тихого забытья она находилась уже несколько месяцев, с того часа, когда при переходе через болото потеряла мать и сына. И в первый же день Петр Хропов оказался в затруднительном положении, — что ему с ней делать? Можно было бы переправить на самолете в Москву, но никто не знал ни адреса Татьяны, ни ее родных: документы погибли в болоте. Тогда было решено лечить ее на месте, за что и взялся фельдшер Иван Егорович, человек пожилой, опытный. Но он вскоре заявил Петру Хропову: