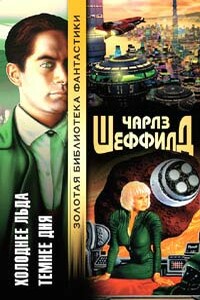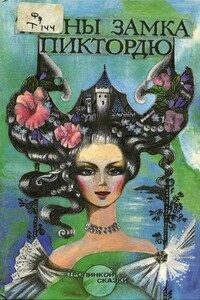Он был очень молод, этот «прекрасный специалист», он совершенно по-мальчишески корчил из себя бывалого, все на свете повидавшего циника, которому уже множество раз приходилось говорить такие слова. Говорить, конечно, решительно и спокойно, глядя обмирающему пациенту прямо в глаза. Говорить, как настоящий мужчина, — честно до беспощадности.
Да только не удалась идиотская эта игра во взрослость. В решительную секунду он все-таки отвел взгляд. И сразу сделался тем, кем и был по правде: сопляком-вундеркиндом, впервые узнавшим доподлинную цену слову «бессилие».
Так вышло, что именно когда он отворачивался, предзакатное солнце нащупало слабину в затянувшей небо плесени, прошило кабинет косыми лучами; и мне померещилось было…
Да, именно померещилось.
Глаза как глаза — тусклые, светло-карие, обычные.
Значит, на этот раз действительно конец. Вот и хорошо. А то, действительно, — сколько же можно?!
— Как скоро это случится?
Мой голос прозвучал именно так, как, верно, хотелось бы говорить врачу: ровно, с ноткой усталого сочувствия (будто это я сейчас должен сочувствие проявлять!).
— Точно сказать не могу, — онколог все еще прятал взгляд. — Месяц. Два месяца. Полгода…
— Год, — равнодушно подсказал я.
— Года у вас уже точно нет.
В коридоре воняло карболкой. И страхом. Небольшая по вечернему времени очередь — человек пять-шесть — тревожно уставилась на меня. Никто не подскочил, не заторопился в кабинет.
Неужели по мне настолько все видно? Да сколько же раз нужно оказаться на грани, чтобы перестать наконец аж этак вот бояться того, что за ней? Сколько раз… Быть может, ни одного?
Я торопливо зашагал к лифту, спасаясь от назойливых взглядов. Да, от взглядов спастись было просто. А вот от слов…
Женский голос, вроде бы и тихий, но исключительно явственный:
— Может, лучше не сегодня? Может, лучше уйдем?
И мужской, успокаивающий:
— Ну что ты, не всем же ж такое! Тебе ж сказали: анализы, это… обнадеживающие.
А когда я уже юркнул в замызганное лифтовое нутро, вслед ударило, будто контрольный выстрел:
— Надо же, такой молодой, а…
Остальное перерубили сдвинувшиеся дверцы.
Молодой.
Если бы! Возможно, будь я на самом деле таким, как кажусь, слова онколога воспринялись бы легче? Ну вот, опять эта дурацкая мысль.
А снаружи доспевал яркий веселый вечер. Тусклая муть, еще с ночи облепившая небо, не изветшала, оказывается, а успела напрочь сгинуть, пока я навещал гнездилище эскулапов; солнце, спеша наверстать упущенное за день, подменило воздух прозрачным золотом, теплым и невесомым.
Запущенный сквер, в который меня сплюнуло крыльцо поликлиники, был почти пуст — лишь пара-тройка прохожих торопилась нырнуть в путаницу окрестных улочек, да неопрятного вида старик дремал на лавке перед бывшей клумбой. Бывшей — это потому, что ухаживать за ней перестали, небось, черт-те когда, и вместо всяких садовых изысков росла там дикая луговая трава. А из самой середки целилась в зенит копьеподобной верхушкой дикая мальва. Пышная, кремово-розовая.
Господи, я же мимо этой клумбы проходил в поликлинику. Как же мне удалось не заметить, не обратить внимания — ведь точь-в-точь же!
Хотя нет, те мальвы были куда как выше. Или разница не в растениях нынешних и тогдашних, а в тогдашнем и нынешнем мне?
Медленно, будто пересиливая нешуточную опаску (да причем же здесь «будто»?), я шагнул с асфальта в траву, присел на корточки, разглядывая цветы, опоясавшие крепкий ворсистый стебель сужающимися ярусами; в ноздри как-то странно, толчком вплеснулись запахи обласканной солнцем зелени, пыльцы, теплой влажной земли…
Вот и включилась якобы невоплотимая мечта фантастов, на деле доступная всем и каждому.
Машина времени.
Память.
* * *
Стëжка вынырнула из ракитника, пошла взбираться на крутой бугор, поросший жесткой выгорелой травой. И мальвами. Могучими, великанскими — казалось, их острые верхушки упираются в невозможную высь, в самое-самое небо. Запрокинув голову (и, подозреваю, глупо разинув рот), я долго глазел на увязшие в синеве тугие бутоны. Кончилось это тем, что раскисшая от пота соломенная шляпа упала и вприпрыжку укатилась обратно, к кустам. Пришлось поставить ношу на траву и гнаться за головным убором. А когда я, вконец запыхавшийся и взмокший, вернулся, на тропинке уже стояла она. Стояла и рассматривала мой жестяной блестящий бидончик так же зачарованно, как я давеча — мальвы-великаны.
Девчонка. Маленькая — лет шести. Взъерошенная, замурзанная, простоволосая (в русых кудряшках запутались сухие травинки), цветастое платьишко перепачкано, одна сандалька расстегнута, белые носочки сбились и перестали быть белыми…
— А я вас знаю, — сообщило загадочное явление, застенчиво поднимая на меня голубые глаза. — Вы — докторов сынок. Правда?
— Ну, правда…
— А вы старого доктора сынок? Или молодого?
Я гыгыкнул: папа — и вдруг «молодой»!
Девчонка отчего-то сочла изданный мною звук ответом, причем утвердительным. А еще — поощрением для новых вопросов:
— А старый доктор — он вам кто? Вы у него тоже как бы на даче?
Вот тут я про нее все и понял: как-никак, у меня за плечами было уже полных два класса. Впрочем, о существовании на свете странных людей, прозываемых «накладники», я узнал чуть ли не в первую же свою гимназическую неделю. Сперва новое это знание напугало, я даже втихомолку пытался примерять на себя накладничью жизнь (и пугался еще больше), однако быстро выучился воспринимать их как… ну, как невыносимый зной и безводье в пустыне Сахара. Мало ли на свете неуютных вещей, которые впрямую меня не касаются! Ну и что ж мне с того, что есть, оказывается, такие люди, которым всë-всë накладно. В гимназию отдать ребенка на собственный кошт — накладно; квартиру хорошую снять — накладно; летом на дачу выехать — тоже накладно, едут гостить к знакомым или родственникам. Хоть куда, хоть в глухомань какую-нибудь, где ни общества приличного, ни магазинов, ни моря или хоть путной реки, — лишь бы, значит, на дармовщинку. Но что же, эта сопля воображает, будто и я, как она?!.