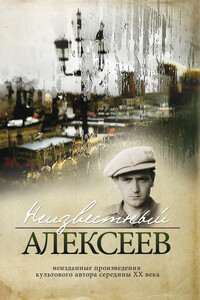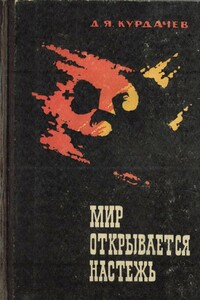Житомир. Весна 1919 г. Просыпаюсь ранним свежим утром от веселой возни в саду, — там одеваются красноармейцы расположенной в соседнем доме команды. Крепкий краснощекий парень, набрав воды в рот, пускает ее тоненькой струйкой на руки, — моет лицо, как из умывальника.
Быстро вскакиваю и наскоро одеваюсь, — впереди деловой, хлопотливый день; нужно сделать два доклада в бригаде, разослать инструктивное письмо по N-ой дивизии, а самое главное, вчера в штабе рассказывали, что галицийская бригада открыла фронт и меня назначили в полевой политотдел.
Еду туда. Военком в штабе, — бросаюсь в штаб и чуть не попадаю под машину. В машине военком и начдив. Военком кричит, высовываясь из-за пулемета: «Выезжаю на позиции, вернусь к 2 часам, а если позже...» — ветер уносит остальное. Возвращаюсь в политотдел. Какая тут культработа!
Вместе с пугливо поглядывающей на меня секретаршей отбираю нужные бумаги. Невольно задерживаешься, пробегая ту или иную бумагу; уже складываются и привычные выводы, начинаешь делать отметки. Но — нужно спешить.
Низко-низко — кажется, что над самыми окнами, — пролетает польский аэроплан. В соседней комнате кто-то падает на одно колено и палит по непрошеному гостю из винтовки. Рокот мотора не прекращается, — зловещая птица благополучно улетает.
Начинается подготовка к эвакуации. К вечеру встречаю двух приятелей, они в полном боевом порядке, ведут под уздцы лошадей, собираясь пробиваться верхом на соединение с нашими частями. Отступление по ж. д. уже отрезано поляками. Мне делается грустно, и, утомленный, я бреду по дороге к вокзалу, где должен заночевать в вагоне одного товарища по работе.
На утро просыпаюсь от шума и крика: мой приятель, полуодетый, мечется по вагону, ругаясь самым неистовым образом. В общей суматохе нас, оказывается, позабыли прицепить к отходившим поездам.
Бросаюсь в нашу походную канцелярию. Тут же, на откосе, у вагона, развожу огонь, — сжигаю кипы донесений, сводок, планов культработы. Слышится жесткий, режущий слух пулеметный огонь подходящих польских частей. В эту же минуту — откуда ни возьмись — через станцию, не останавливаясь, проходит наспех составленный бронепоезд. К нему прицеплено несколько платформ с орудиями, на платформах — матросы. С криком «ура, братишки» мы с приятелем бросаемся к поезду. Товарищ вскочил благополучно, я поскользнулся и, еле поднявшись, в совершенном отчаянии смотрю вслед удаляющимся вагонам...
Пулеметный стрекот все ближе. Визгливо проносятся пули. Рядом со мной закричала женщина, — у нее окровавлена шея. Я отворачиваюсь и медленно иду по перрону к вокзалу. Ощупывая и выворачивая карманы френча, разрывая в клочки бумажки и удостоверения, лихорадочно думаю все об одном и том же: как же быть, что делать?
До города версты полторы. Пройти туда и спрятаться у квартирной хозяйки? Но согласится ли она? Я спрашивал ее об этом года через два в Москве. Сказала: «Ну конечно спрятала бы». Однако у меня нет уверенности в этом и теперь, как не было и тогда, — я не вернулся на свою квартиру.
Город соединялся с вокзалом широкой, тенистой дорогой. Туда я не решался идти. С другого края станционных построек можно было через дворы и межи выйти на тропинку, можно было пробраться на городскую окраину, где были у меня кое-какие знакомые на кожевенном заводе. Там меня и знали меньше. И я решил идти туда, завернув по дороге в первое попавшееся помещение, чтобы снять френч и по возможности принять штатский облик. Буфет 1 класса, куда я зашел, был совершенно пуст. Как на экране, показалась передо мной голубая фигурка молоденького, румяного польского солдатика. Он кричал что-то непонятное, а его большие голубые глаза глядели на меня пугливо и злобно. Я бросил в сторону револьвер. Сопротивление было бесполезно. В окна, в двери лезли поляки. Солдатик для пущей верности ткнул меня штыком в ногу и велел идти впереди себя, как это обычно делается. Он шел позади, с винтовкой на изготовке. Через несколько шагов мы натолкнулись на «пана поручика». «Пся кревь — большевик» — ощерился он и начал выворачивать мои карманы. Я стоял, как совершенный истукан. Вдруг меня ударило, как электрическим током, — из моего бокового кармана необыкновенно ловко и аккуратно выпала записная книжка, которую я впопыхах позабыл уничтожить, — рапорт заведующих полковыми школами, отчеты о митингах... Неужели смерть?..
На ломаном украинском языке г. поручик объяснил мне, что он понимает по-русски, не умеет только читать, а потому предлагает читать вслух по его указанию и читать — последовало несколько крепких, оставшихся для меня непонятными выражений — так, как написано. Путаясь и заикаясь, я начал свое последнее — я был уверен в этом — чтение вслух, по возможности пытаясь заменять или проглатывать отдельные выражения и фразы.
Не помню что (и долго ли) читал я г. поручику. Резким толчком офицер вышиб у меня книжечку, вынул револьвер и предложил мне последовать за ним в сторону от железнодорожных путей.
Мне всегда казалось неестественным, когда герой романа перед смертью посылается автором в небольшой фамильный кинематограф и видит там, как быстрой чередой проходят перед ним одна за другой картины детства, юности и т. д. — вплоть до развязки. Я в эту минуту, которая должна была быть последней минутой моей жизни, не думал ни о братьях, ни о любимых, — ни о чем... Я как бы ничего не видел и ничего не чувствовал... Холмик, у которого мы стояли, да блестящий козырек офицерской фуражки — вот что запечатлелось бы в мозгу умирающего культработника N-ой дивизии.