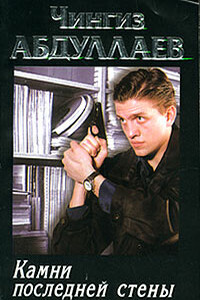Никогда еще в кафе не было так накурено, как теперь, в эти новые тяжкие дни. Люди изо всех сил затягивались сигаретами, будто надеялись спрятаться в папиросном дыму. Но агенты полиции с усами-щеточками заглядывали в окна, и взгляд их был достаточно остер, чтобы проникнуть сквозь любой дым и туман.
Полиция разыскивала скрывающихся от воинской повинности, а также застрявших в стране чужаков — врагов отечества. Этих последних хватали, едва они появлялись на пороге. По темным и извилистым улицам, мостовые и тротуары которых обратились сейчас в камни преткновения, волокли в полицейские участки. Там задержанные томились по нескольку дней, пока их не отсылали в один из специально созданных лагерей — «убежищ для перемещенных лиц». Некоторым удавалось избежать столь горькой участи — если находился добрый друг или знакомый из числа подданных этой страны, который не отказывался приложить усилия к их спасению. Тогда счастливчика вызывали из камеры предварительного заключения в контору комиссара полиции, и тот составлял протокол. Не поднимая на него, на врага отечества, глаз: имярек сын имярека из такой-то страны и так далее, и так далее. Справка об освобождении давалась комиссару с трудом, он макал ручку в чернила и стучал пером по краю чернильницы, встряхивал и снова стучал: нет чернил! А протокол о задержании в первую ночь ареста настрочил бойко и незамедлительно: тогда чернил в чернильнице было предостаточно.
Именно таким образом удалось освободиться небольшой группе русских художников и писателей. Чудом удалось освободиться. Только один из них, молодой поэт Давид Голь, почему-то отклонил все попытки помочь ему и высказался, по своему обыкновению, на иврите:
— Мне все равно. Пожалуйста, отправляйте куда хотите. Есть там дают?
Самое худшее случилось с художником Манро. Жандарм схватил его за городом, в чистом поле, в то время как он запечатлевал на полотне некий приглянувшийся ему пейзаж. Шпион зарисовывает окрестности, чтобы передать в руки врага! В полицейском участке один из полицейских сказал ему, что он стрелял. Продержав под арестом несколько дней, беднягу отпустили на свободу. Но, как видно, происшествие произвело на него слишком удручающее впечатление — взвинченные нервы не выдержали. Спустя непродолжительное время Манро по собственной воле вернулся в полицию и потребовал:
— Арестуйте меня, я шпион!
Полицейские немного подивились и отправили его в психиатрическую лечебницу. А оттуда — в Штайнхоф (психиатрический диспансер под Веной).
Случившееся потрясло всю компанию, но вместе с тем наполнило сердца тайной радостью: шестнадцатилетняя Эстер, сестра художника, осталась теперь одна-одинешенька. Она приехала сюда всего несколько месяцев назад из родного польского городка повидать брата, который оставил отчий дом еще в те времена, когда она была совсем крошкой. И когда тот привел ее первый раз в кафе — в черной дорожной шляпке, в полосатом пальто из грубой ткани, — вся компания тут же влюбилась в нее с первого взгляда. «Есть еще, есть!..» — восхищались они потихоньку. Ну да, они-то, умудренные опытом, полагали, что уже повидали все виды красоты, и их не может более поразить ни одно личико в мире. Даже идишистский писатель Меир Зилпер, которого война отторгла от жены и маленькой дочери, оставшихся в Вильне, даже этот Зилпер, весь почерневший и разбитый, слегка приободрился, и лицо его ненадолго разгладилось и просветлело. И сам Манро, поскольку, в сущности, не видел сестры с самого ее младенчества, взирал на нее, будто чужой, и переживал нечто большее, чем чистые братские чувства. Беспокойство проступало во всей его фигуре, когда он шагал с ней рядом. В тот вечер находился тут и иерусалимский писатель Шломо Пик, который время от времени прибывал сюда из Эрец-Исраэль «вдохнуть Европы». Даже он был удивлен чрезвычайно и, приложив, по своему обыкновению, ладони к ушам, дабы защитить их от переохлаждения, сказал:
— Господи! Если у нас есть такие девушки, мы еще не погибли…
И вот теперь эта Эстер, лишившись брата, без которого до того не сделала ни единого шага, оказалась как бы на их попечении, нуждаясь в опеке и материальной поддержке. Что за упоительная ноша! Они спешили опередить друг с друга в любых услугах: подыскать квартиру, помочь деньгами, сбегать туда-сюда. Они беспокоились о ней больше, чем о самих себе. Вымаливали ссуды, о! — никогда еще деньги не ценились ими столь высоко, как теперь!
Каким образом и где раздобыть все это, будучи закупоренным в наглухо перекрытых границах и отрезанным от внешнего мира, которым ты только и жил до сих пор? Правда, и тут есть много богатых евреев, интересующихся литературой и гордых знакомством с писателями, но попробуй подойди в кафе к одному из них и попроси вполголоса одолжить двадцать крон! Он тотчас отшатывается от тебя, мрачнеет, и его задушевная беседа с другом-земляком, компаньоном по торговле и маклерству, с которым он общается в тот час, вдруг становится необыкновенно важной…
Каждое утро ты просыпаешься и спрашиваешь себя: к кому сегодня? Имеется служащий «Альянса», доктор Ящурка, главная обязанность которого в этом учреждении, по-видимому, состоит в том, чтобы ничего не давать. Он встречает тебя в своем доме в злобно поблескивающих очках и протягивает тебе вялую руку. Только это принужденное рукопожатие, никаких объятий — он не уверен, что ты достоин и этого. Узнав о цели твоего визита, он принимается укорять тебя: