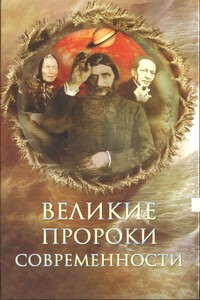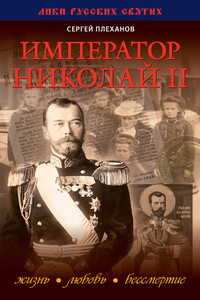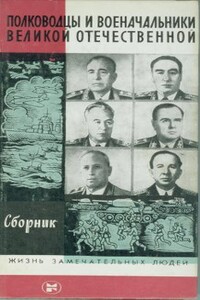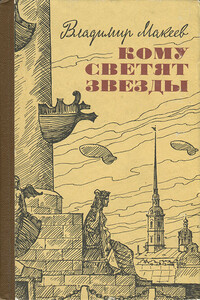— В давние времена Петр Первый заложил города. Один на Неве, другой на острове Котлин. А на пути между ними, ближе к месту переправы, отставной матрос Мартышка построил постоялый двор. Заезжали туда, перед тем как тронуться в Кронштадт через море, и люди торговые, и люди служивые чайку попить, отдохнуть до утра или переждать непогоду.
В честь Петра Великого город назвали Петербургом, а именем оборотистого моряка поселок — Мартышкино. Матрос давно свое отхлопотал, за давностью лет затерялись его потомки, а поселок живет. Никто его не минует: ни кто по шоссейной дороге едет, ни кто по железной.
Так рассказывал Иван Васильевич Травкин жене Лидии Александровне о большом зеленом поселке Мартышкино, по которому ходили они, подыскивая на лето сносную по условиям и цене дачку.
В 1941 году, сняв домик здесь, под Ораниенбаумом, служивший в Кронштадте командир подводной лодки Травкин и его жена думали побыть в это лето поближе друг к другу. Ленинград, где находилась квартира, в двух часах езды на пароходе, еще час добираться по городу. До Ораниенбаума же от Кронштадта всего полчаса ходу на катере, и Иван Васильевич сможет чаще навещать семью в выходные дни.
Как было задумано, так и получалось. И 21 июня удалось приехать к жене и детям. Наутро Иван Васильевич по корабельной привычке рано встал, пошел искупаться на Финский залив. У Мартышкина он мелкий. Травкин шел по воде, берег отдалялся, а глубины прибывали медленно. Он смотрел по сторонам и радовался встававшему над морем неяркому утреннему солнцу, посветлевшей ласковой воде, блеску засеребрившейся под лучами солнца травы и деревьев. Уходило дремотное состояние, в мускулы вливались бодрость и сила.
И все же что-то встревожило Ивана Васильевича. Проплыв подальше от берега и снова оглядевшись, он понял, чем вызвано это беспокойство. Залив бороздило слишком много для раннего утра и воскресного дня судов и катеров, словно видел он не входы в кронштадтские гавани, а растревоженный муравейник. Чувство беспокойства пригасло, когда заметил рейсовые пароходики. Они шли навстречу друг другу: один из Ораниенбаума в Кронштадт, другой из Кронштадта в Ораниенбаум. Подумалось: «Если бы что серьезное, их, наверно, не выпустили, впрочем, все равно потороплюсь…»
Иван Васильевич набросил на плечи рубашку, тщательно причесал назад гладкие после купания волосы — даже в этой мелочи проступала его привычка делать все основательно, надежно — и по хрустевшему под ногами песку поспешил к уютному дачному домику. На крыльце стояла Лидия Александровна, озабоченная, встревоженная. Напротив нее — высокий незнакомый краснофлотец. Он отдал честь и вручил командиру белый конверт. Иван Васильевич торопливо разорвал его и прочитал предписание немедленно явиться в часть.
— В девять ноль-ноль, — сказал посыльный, — от пирса в Ораниенбауме будет отходить катер.
— Что это, Ваня? — затревожилась Лидия Александровна. — Неужели война?
— Полно тебе! Учение какое-нибудь… — стал успокаивать Травкин жену, хотя подумал о том же.
— Разрешите, — краснофлотец понизил голос и разъяснил: — Война, товарищ старший лейтенант. Это точно. В Кронштадте все подняты по тревоге.
Лидия Александровна не сводила глаз с мужа. Среднего роста, рядом с высоким поджарым рассыльным он казался даже маленьким. Ему недавно исполнилось тридцать три года, но, подтянутый, спортивного телосложения, в скромной светлой рубашке, он выглядел ненамного старше матроса срочной службы. А сердце подсказывало женщине, что не скоро увидит она мужа и лихое надвигается время. Стараясь не расплакаться, спросила:
— Нам в город вернуться или здесь быть?
— Пока здесь. Может, когда и выскочу. — Он поцеловал спавших дочерей Эллу и Маину. — Береги детей!
— С ними все в порядке будет. Себя береги!..
Недолог путь от Ораниенбаума до Кронштадта, но за полчаса многое воскрешает память. Травкин вспомнил, что слышал слова: «Береги себя» еще мальчишкой, когда его мать Александра Матвеевна провожала отца Василия Николаевича на войну в 1916-м. Было тогда Ивану восемь годков. Жили Травкины неподалеку от Москвы в Наро-Фоминске. В семье было восемь детей, и поэтому тридцатисемилетний Василий Николаевич имел право на освобождение от службы. Призвали его, не считаясь с установленным порядком, как активного участника забастовки текстильщиков. Прямо с фабрики группу рабочих под конвоем угнали в уездный город Верею.
Вспомнилась темная ночь в ноябре, когда отец неожиданно снова появился в старой длинной шинели, в тяжелых, подкованных железом солдатских сапогах, серых обмотках и серой папахе на стриженной наголо голове. Старшие дети радостно закричали, младшая — Полина — не узнала отца, разревелась на всю небольшую каморку — их скромное жилье в бараке.
— Вот пришел без разрешения, чтобы попрощаться, — как-то виновато стал объяснять отец.
— Ты бы по-хорошему попросился, — ответила мать.
— Просился, толку-то…
Не прошло и часа, как в дверь громко постучали. Пришли урядник и два городовых. Мать заплакала, следом и вся громкоголосая детвора. Старший брат Николай бросился на городового с кулаками, когда тот стал скручивать отцу руки. Тринадцатилетнего паренька отбросили в угол.