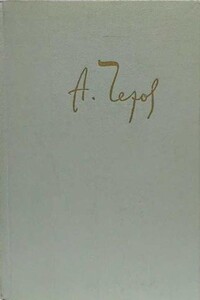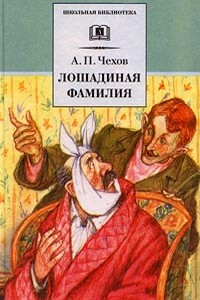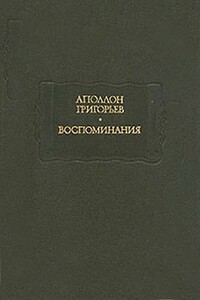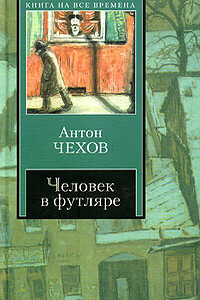Дочери действительного статского советника Брындина, Кити и Зина, катались по Невскому в ландо[1]. С ними каталась и их кузина Марфуша, маленькая шестнадцатилетняя провинциалка-помещица, приехавшая на днях в Питер погостить у знатной родни и поглядеть на «достопримечательности». Рядом с нею сидел барон Дронкель, свежевымытый и слишком заметно вычищенный человечек в синем пальто и синей шляпе. Сестры катались и искоса поглядывали на свою кузину. Кузина и смешила и компрометировала их. Наивная девочка, отродясь не ездившая в ландо и не слыхавшая столичного шума, с любопытством рассматривала обивку в экипаже, лакейскую шляпу с галунами, вскрикивала при каждой встрече с вагоном конножелезки… А ее вопросы были еще наивнее и смешнее…
— Сколько получает жалованья ваш Порфирий? — спросила она, между прочим, кивнув на лакея.
— Кажется, сорок в месяц…
— Не-уже-ли?! Мой брат Сережа, учитель, получает только тридцать! Неужели у вас в Петербурге так дорого ценится труд?
— Не задавайте, Марфуша, таких вопросов, — сказала Зина, — и не глядите по сторонам. Это неприлично. А вон поглядите, — поглядите искоса, а то неприлично, — какой смешной офицер! Ха-ха! Точно уксусу выпил! Вы, барон, бываете таким, когда ухаживаете за Амфиладовой.
— Вам, mesdames[2], смешно и весело, а меня терзает совесть, — сказал барон. — Сегодня у наших служащих панихида по Тургеневе, а я по вашей милости не поехал. Неловко, знаете ли… Комедия, а все-таки следовало бы поехать, показать свое сочувствие… идеям… Mesdames, скажите мне откровенно, приложа руку к сердцу, нравится вам Тургенев?
— О да… понятно! Тургенев ведь…
— Подите же вот… Всем, кого ни спрошу, нравится, а мне… не понимаю! Или у меня мозга нет, или же я такой отчаянный скептик, но мне кажется преувеличенной, если не смешной, вся эта галиматья, поднятая из-за Тургенева! Писатель он, не стану отрицать, хороший… Пишет гладко, слог местами даже боек, юмор есть, но… ничего особенного… Пишет, как и все русские писаки… Как и Григорьевич, как и Краевский[3]… Взял я вчера нарочно из библиотеки «Заметки охотника», прочел от доски до доски и не нашел решительно ничего особенного… Ни самосознания, ни про свободу печати… никакой идеи! А про охоту так и вовсе ничего нет. Написано, впрочем, недурно!
— Очень даже недурно! Он очень хороший писатель! А как он про любовь писал! — вздохнула Кити. — Лучше всех!
— Хорошо писал про любовь, но есть и лучше. Жан Ришпен[4], например. Что за прелесть! Вы читали его «Клейкую»? Другое дело! Вы читаете и чувствуете, как все это на самом деле бывает! А Тургенев… что он написал? Идеи все… но какие в России идеи? Все с иностранной почвы! Ничего оригинального, ничего самородного!
— А природу как он описывал!
— Не люблю я читать описания природы. Тянет, тянет… «Солнце зашло… Птицы запели… Лес шелестит…» Я всегда пропускаю эти прелести. Тургенев хороший писатель, я не отрицаю, но не признаю за ним способности творить чудеса, как о нем кричат. Дал будто толчок к самосознанию, какую-то там политическую совесть в русском народе ущипнул за живое… Не вижу всего этого… Не понимаю…
— А вы читали его «Обломова»? — спросила Зина. — Там он против крепостного права!
— Верно… Но ведь и я же против крепостного права! Так и про меня кричать?
— Попросите его, чтоб он замолчал! Ради бога! — шепнула Марфуша Зине.
Зина удивленно поглядела на наивную, робкую девочку. Глаза провинциалки беспокойно бегали по ландо, с лица на лицо, светились нехорошим чувством и, казалось, искали, на кого бы излить свою ненависть и презрение. Губы ее дрожали от гнева.
— Неприлично, Марфуша! — шепнула Зина. — У вас слезы!
— Говорят также, что он имел большое влияние на развитие нашего общества, — продолжал барон. — Откуда это видно? Не вижу этого влияния, грешный человек. На меня, по крайней мере, он не имел ни малейшего влияния.
Ландо остановилось возле подъезда Брындиных.
1883
Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 39, 24 сентября. Подпись: А. Чехонте.
Смерть И. С. Тургенева (3 сентября 1883 г.) вызвала широкий отклик на страницах печати. 19 сентября 1883 г. Чехов писал издателю Н. А. Лейкину: «Посылаю Вам „В ландо“, где дело идет о Тургеневе».
1 октября 1883 г. Лейкин сообщил Чехову, что он изменил конец рассказа: «Простите также, что в рассказе Вашем „В ландо“ я урезал конец. Не буду врать. Это не цензор, а я. Урезал я также не потому, чтобы рассказ был длинен для „Осколков“. Нет. Но мне казалось, что барон в натуре не станет так разговаривать с лакеем, да и лакей не станет так отвечать.Мне казалось это деланным, казалось, что конец портит прекрасное начало. Урезав конец, сделал я это не без зрелого размышления, даже посоветовавшись с одним из собратьев по перу».