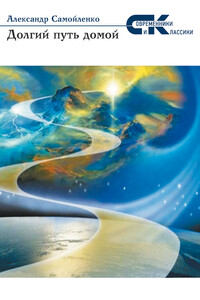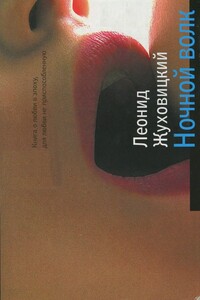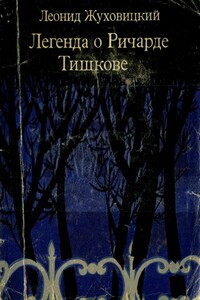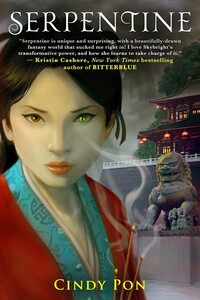Энвер Джолумбетов
В конце зимы
(повесть)
Первый февральский день выдался необычайно морозным и хмурым. К одиннадцати утра повалил снег. И стало тихо. Приглушенно, будто бы сдавленные холодом, носились на подступах к железнодорожному вокзалу отголоски людского говора, окрики, смех, сигналы автомобилей.
Полный, небольшого роста молодой мужчина в сером плаще спешил на остановку. Через плечо его висела дорожная сумка. Придерживая ее за ремень, он щурился от налетающих на глаза снежинок и беспокойно оглядывался на площадь. Троллейбус уже нагонял его, когда над его крышей что-то захлопало, рассыпалось искрами, и, оторвавшись от проводов, взлетели в воздух, тяжело раскачиваясь, две тонкие, длинные электрические штанги, и машина остановилась. Из открывшейся передней двери хлынули наружу пассажиры. Заметалась по скользкому, накатанному насту, натягивая веревки штанг, долговязая девица-водитель с быстрыми и злыми от досады глазами.
— Ну куда вы лезете?! — кричала она. — Куда?.. Не можете потерпеть?..
Мужчина в плаще был уже тут.
Через минуту троллейбус тронулся.
В бухгалтерии строительно-монтажного управления «Средазэнерго», куда он так торопился, стояла напряженная деловая атмосфера. Кто-то писал, кто-то переговаривался, кто-то шелестел страницами документаций. Особняком, у дальнего окна, сидела за массивным столом старший бухгалтер, худощавая, прямая, в наброшенной на плечи вязаной кофточке. Она подняла на вошедшего глаза, искаженные толстыми, выпуклыми линзами очков в роговой оправе, и, очень уж обыденно, опять углубляясь в бумаги, проговорила:
— А, это вы, Важенин… А где остальные?
— Пока я один, Людмила Васильевна, — ответил Важенин и направился к ней, здороваясь на ходу со всеми, кто находился в комнате. — Там уже нечего делать. Правда, осталось еще кое-что с приемной комиссией увязать, но с этим и без меня обойдутся.
— Ой ли! — продолжая что-то писать, откликнулась Людмила Васильевна. — Самовольно оставить рабочее место — это, знаете ли… Думаю, не похвалят. — Она отложила ручку и закинула голову. — Неприятности будут, Важенин.
«Знала бы она мои неприятности!» — раздраженно подумал Важенин и суетливо, занятый мыслью: побыстрее бы разделаться с делами в управлении и уехать домой, принялся выкладывать перед ней, на свободный угол стола, проездные билеты и квитанции за проживание в гостиницах.
В то время как Важенин отсутствовал в командировке, дома у него что-то случилось: так как сколько ни писал, ни слал телеграмм, ни заказывал переговоров, ответом было молчание. И дурные предчувствия, и дурное расположение духа уже не покидали его. Он нервничал. Он был согласен даже на то, чтобы его супруга изменила ему, ушла от него, но лишь бы она и его дочь были бы живы. Живы!.. И страстно желал увидеть их. И вместе с тем ужасно боялся, что, приехав домой, увидит не их, а нечто непоправимое.
— Ну, что же вы встали? — донесся до него голос Людмилы Васильевны. — Берите где-нибудь стул и пишите авансовый отчет…
Покончив с делами в управлении, Важенин выбежал на улицу и тут же, у парадного подъезда, остановил удачно подвернувшееся такси.
Важенин работал электросварщиком, специализируясь на монтаже промышленно-энергетических объектов. И хотя не достиг чего-то особенного, добывая себе хлеб насущный своей ничем не примечательной профессией, но работу свою любил: и за деньги, и за разъезды, ассоциировавшиеся у него с романтикой. В дальние дали его манило всегда — сколько себя помнил. И не важно, что каждая его дорога, всякий раз обещающая что-то еще не изведанное и не испытанное, в конечном счете ничего нового не приносила. Всюду и везде было то же самое: новостройки, пыль, слякоть; зимой — трескучие морозы, пронизывающие ветра, летом — палящее солнце, но в преодолении всего этого, когда приходилось вкладывать в труд все свое самообладание и мужество, волю и мастерство, было что-то упоительно радостное и сильное. А высота?.. Что может быть лучше ее? Оседлать на головокружительной высоте, под самыми облаками, бетонную или стальную хребтину балки, тобой же и твоими товарищами сюда закинутой, закрыться от всего мира маской и, щедро поливая дождями ослепительных искр далекую внизу под ногами землю, сваривать стык за стыком, стык за стыком… и сознавать, что ты один на этой немыслимой высоте и равен птице в полете, вольной и гордой, и даже выше птицы, ибо ты — созидаешь!
Да. Важенин любил свою работу и не смог бы променять ее ни на какую другую. Не смог бы. А вот другие меняли, и главным образом, чтобы не мотаться по командировкам. И Важенина это всегда удивляло.
Но теперь, рассеянно посматривая из кабины такси на заснеженные, несущиеся мимо многоэтажные кварталы с нахохленными пешеходами на тротуарах, Важенин понял, что все, кто когда-то ушли из бригады, поуходили вовремя и правильно сделали, а он опоздал, задержался, и вот она — расплата: ушли от него самого, если похуже чего не случилось. И это «похуже», чему он склонен был придавать особый, безысходный смысл, пугало его гораздо больше, чем если бы от него просто ушли. «Дурак! — ругал он себя еще и за то, что завернул в управление. — Надо было сразу же ехать домой! Сразу! На кой черт тебе эта контора!» И его мелкие зеленовато-карие глазки, глубоко посаженные на широкоскулом лице, начинали с затаенной тревогой блуждать по сторонам, точно ища хотя бы какой-нибудь, хотя бы самой ничтожной поддержки извне. Вдруг, на фоне быстро вырастающего впереди фасада центрального универмага, у самых его дверей, сквозь оживленное мельтешение народа, он увидел цветы, — целые ряды цветов, — под заваленными снегом навесами, закутанные в целлофан, они ярко и разнообразно пестрели из всевозможных горшочков и ведер.