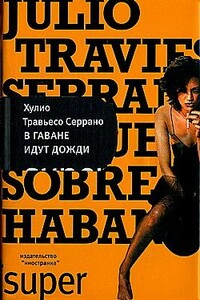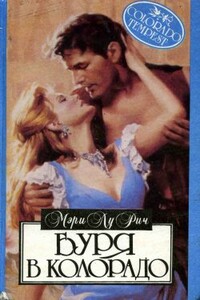Слезы в душе у меня,
Как над городом слезы дождя.
Поль Верлен
Ливень всей своей мощью внезапно обрушился на Гавану, как это бывает в сезон дождей. Тяжелые струи яростно хлестали крыши и улицы, но дождь так же внезапно кончился, уступив место глухой тишине, поглотившей, как мне казалось, все звуки и шорохи.
Часы на стене тоже остановились – ровно за минуту до полуночи, – словно предвещая беду в ту майскую ночь 1992 года.
И тут явилась Моника. Открылась тайна ее исчезновения.
Она вошла и сказала:
– Я умираю.
Умереть, почить, упокоиться, погибнуть, скончаться, скапуститься, угаснуть, muri, morire, to die – как много есть слов в испанском и других языках, обозначающих одно и то же событие, единственное и универсальное, частное и всеобщее, схожее и разноликое, происходившее до человека, до Земли и до Галактики – гибель материи, исчезновение энергии, окоченение, конец и начало.
– Мы с тобой умрем. Сначала я, потом ты.
– Когда?
– Наверное, через год-два, может, и позже, но так обязательно будет. А до того еще придется мучиться и страдать.
Меня пугали не столько муки и страдания, сколько тот самый момент, когда вдруг начнешь задыхаться, жадно хватать ртом воздух и провалишься во тьму, точно шагнув во мрак кинозала.
– Да что такое стряслось?
– Все это по моей вине, – сказала она, всхлипывая и прижимаясь ко мне.
По ее вине? Я тихо поцеловал Монику в лоб. Надо было забыть свои собственные страхи и найти какие-то слова утешения и ободрения.
– Знаешь… – сказала она, плача и все еще отвергая мои нежности, а значит, и саму жизнь. – Как только придет боль, я покончу с собой.
Я покончу с собой, ты покончишь с собой, мы покончим с собой, когда придет боль, завтра или через год-два, кто знает когда, – все это звучало как в мелодраме. Но в те минуты было совсем не до мелодрамы.
– Я тоже умру. Вместе с тобой, – сказал я и, сжав руками ее голову, посмотрел в заплаканные глаза, красивые, как никогда.
– Поклянись, что не бросишь меня, даже если я превращусь в страшенную ведьму, морщинистую и беззубую. Поклянись.
– Клянусь, – ответил я и снова поцеловал ее. – Клянусь тебе, моя дорогая, любимая.
С тех пор великое множество оборотов сделали стрелки часов, настенных часов, сопровождающих меня всю мою жизнь, висевших когда-то в доме моих родителей, а еще раньше – в доме моих дедов, прадедов и далеких предков, часов, купленных, возможно, самим Фелипе Валье, старейшим из известных мне представителей нашего рода; часы переходили из поколения в поколение. Их деревянные створки открываются каждые полчаса, и наружу выскакивает аккуратная труженица-кукушка, которая той ночью не захотела выпрыгнуть из гнезда, видимо устав без отдыха отсчитывать чьи-то часы.
Сейчас кукушка, откуковав, спокойно спит, а я вспоминаю о Монике, моем друге, моей возлюбленной, моей любви. Я вспоминаю ее дневник, слова и рассказы. Обычно она не вдавалась в подробности, но то, о чем она умалчивала, я угадывал, представлял себе и словно сам все слышал и все видел.
Я расскажу ее историю и свою собственную – нашу историю. Это повесть о том, как Моника исчезнет, затерявшись, утонув в Гаване, в этом прекрасном, уродливом, грязном, порочном городе. Я стану ее искать, но не найду. А однажды она сама вернется, но для любви и жизни уже не останется времени, которого теперь непременно должно хватить для того, чтобы поведать обо всем произошедшем с нами.
Одиннадцать раз повторила кукушка свое «ку-ку», и я вышел на улицу, чтобы, как обычно, совершить долгий вечерний променад. Раньше, когда у меня было собственное жилье, я любил сидеть дома и читать. Мои близняшки-дочери спали, моя жена Бэби смотрела телевизор. Меня не прельщал этот ящик с фантомными картинками. Порой, когда выключали электричество или передача становилась совсем тошнотворной, мы беседовали. В те времена я много читал. А позже, когда познакомился с Моникой, полюбил длительные вечерние прогулки. «Тебя прирежут», – говорили мне, однако я не мог отказать себе в удовольствии – одном из немногих, еще остававшихся, – побродить в ночи, в изумительной гаванской ночи. Разве она не хороша?
На меня угнетающе действует замкнутое пространство, и потому я всегда наслаждаюсь простором, воздухом, особенно на берегу моря. Я брел, ни о чем не думая и не выбирая пути, полагаясь на инстинкт, а иногда следовал за бездомной собакой или кошкой, задерживаясь лишь у какого-нибудь прекрасного здания начала века – из тех, что когда-то с таким энтузиазмом возводила гаванская буржуазия и в садах которых – о, кубинское чудо из чудес – все еще цвели красные розы. До чего же приятно видеть, что кто-то до сих пор наслаждается розами, по утрам заботливо их поливает.
Кто это делает? Престарелая сеньора? Красивая молодая женщина? Хорошо бы вот так вместе с ними поливать в саду эти самые розы.
Улицы, как обычно, были темны, изрыты колдобинами. Привлекшее меня старинное здание соседствовало с современным домом – угловатым коробом, откровенной безвкусицей, и я снова и снова поражался тому, каким образом могут рядом сосуществовать прекрасное и уродливое и как они уживаются? Красавица и Чудовище, инь и ян, два лика Януса? И перед ними стоял я и констатировал сей факт, чтобы сохранить его в памяти, я – римский патриций V века, глядящий на конницу варваров возле фонтанов в Риме. Меня всегда забавляли такие сопоставления, нравилось перевоплощаться в Святого Августина, ощущать себя совсем не тем гаванцем, каким я был и каков есть.