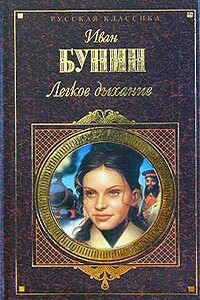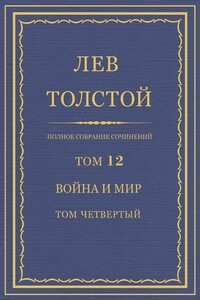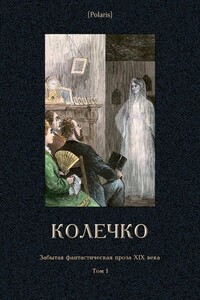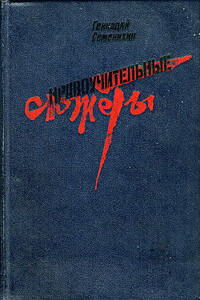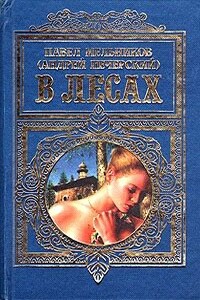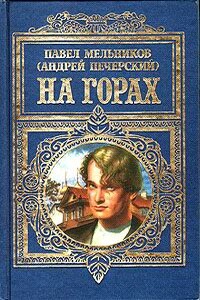Быль[1]
![]()
Быть в Нижнем-Новгороде и не видать Ивана Кондратьича Рыбникова было все равно, что быть в Риме и не видать папы. А видеть Ивана Кондратьича можно было каждый божий день: поутру в депутатском дворянском собрании, а вечером в дворянском клубе. Тридцать три года прослужил он депутатом и чуть ли не пятьдесят лет был членом клуба.
Бывало, усядемся с ним возле бильярдной; человека два-три из неиграющих в карты подсядут, и пойдут у нас нескончаемые россказни. Раз зашла беседа заполночь; говорили про старинные псарни, про медвежью охоту. Кто-то рассказал о нечаянной встрече одного помещика с лесным боярином, Михайлой Иванычем Топтыгиным. Помещик, совсем безоружный, чудом спасся от когтей разъяренного зверя. Толковали о том, что должен был испытать помещик в обществе Мишеньки… Иван Кондратьич молча прошелся раз-другой по комнате и, остановясь перед нами, молвил:
— Со мной хуже было!
Все знали, что Иван Кондратьич не охотник. Удивились.
— Где ж это, Иван Кондратьич?
— В Чудове, Новгородской губернии.
— Как же это случилось? Расскажите, пожалуйста!
— Пожалуй — теперь можно.
— Пожалуйста, пожалуйста, Иван Кондратьич!
— Я еще молод был, — начал Иван Кондратьич, — двадцать с небольшим мне тогда было. Теперь, по новым порядкам, человек в двадцать лет — совершенный, умнее стариков, а в наше время — молокососом считался… Да… Однако я уж тогда и дворянству послужил и в отставку выйти успел. Завелись лишние деньжонки — дай слетаю в Москву, погляжу, что за Москва белокаменная… А она в ту пору отстраивалась после французского разоренья… Собрался, поехал. И встретился я в Москве с нашим помещиком, с Андреем Петровичем Приклонским. Он тогда в откупа вошел; сначала дела у него пошли хорошо, своя винокурня была, а потом спуталось как-то: взыскания пошли, споры да иски — скверное дело. Оттого и жил он в Москве: в сенате хлопотал.
Встретились мы с ним, обрадовались… Обедал я как-то у него. Вдвоем обедали. Андрей Петрович и стал мне откровенно про свои делишки рассказывать.
— Вот беда-то, — говорит, — здесь у меня все на мази, а в Петербург до зарезу надо съездить — справки там пособрать да барашка в бумажке кой-кому сунуть. Самому отлучиться нельзя, пожалуй, все дело испортишь. А верного человека нет. Хоть волком вой!
Толкуем этак, того, другого перебираем, кого бы можно в Петербург послать. Тот тем не годится, другой другим, а ехать — послезавтра.
— Знаешь ли что, Иван Кондратьич? — говорит Андрей Петрович.
— Что? — спрашиваю.
— Сделай дружбу — съезди!
— Легко сказать: съезди, — отвечаю ему. — Да как ехать-то?
— Не твоя беда: на мой кошт поедешь.
— Не в коште сила, — говорю. — Деньги что! Я и сам думал на Петербург посмотреть. А то возьмите, что в Петербурге я не бывал, приеду, как в лес: никого не знаю, за дело взяться не умею. Чтоб не испортить как-нибудь.
— Об этом, — говорит, — не беспокойся. Дам письма к приятелям, все у тебя выйдет, как по маслу. Мне нужен ты только для верности… А на тебя во всем полагаюсь: дело соседское.
— Соседское-то оно соседское. Только ведь я в откупах никакого толку не смыслю. Особенно по заводу, тут уж ни бельмеса не понимаю. Испортить боюсь. Вот что.
— Ицку пошлю с тобой.
А это — жид был, на заводе винокуром служил. Жидам строго было тогда запрещено в столицах проживать.
— Разве, — говорю, — он здесь? Ведь запрещено…
— Мало ль что запрещено! Не одна сотня жидов на Москве живет, хоть и запрещено.
— Без паспорта?
— Зачем без паспорта? С паспортом, только паспорт-от у него припрятан. Не на виду, значит…
— Как же в полиции-то?
— Мой дворовый человек — и вся недолга.
— А в Петербург-от как же его? Там ведь насчет паспортов еще строже московского.
— Здесь Ицка мой, в Петербурге будет твой.
— Не досталось бы?
— Не ты первый, не ты и последний.
Поладили. На другой день поутру привели лошадей. Ицка на облучок, а я в дормез Андрея Петровича. Отличный дормез: венской работы. Покатили шестериком. Барином ехал.
В Петербурге прожил больше месяца. Что нужно было, обделал хорошо. Поехал с Ицкой в обратный путь.
Вечерком приехали на Чудовскую станцию. Ямщик лихо подкатил дормез к подъезду «путевого дворца», — так назывались тогда станции по новой, только что выстроенной шоссейной дороге из Петербурга в Москву. Дом большой, каменный, у подъезда фонари горят. Проезжающих нет, только парная тележка стоит. Лошади, значит, будут.
Был октябрь на исходе; я прозяб, даром что в дормезе сидел; сильно подмораживало. Вышел из экипажа, иду по лестнице — освещена. Вот, думаю, как бы везде такие станции были, ездить бы сполагоря. А то по нашим местам избушки на курьих ножках: тесные, грязные, а клопов да тараканов видимо-невидимо.
Вхожу в комнату — большая, мебель прекрасная. У притолоки смотритель в струнку вытянулся… «Экий порядок!» — думаю.
— Лошадей! — приказываю смотрителю, а сам подаю ему подорожную. — Шестериком! Да дормез надо подмазать. Распорядись, любезный, а я покамест у тебя чаю напьюсь.
Тогда просто было: станционным смотрителям благородные «ты» говорили.
Смотритель подорожную взял, а сам ни с места. Иду дальше. Перед диваном — большущий стол. На нем маленький самоварчик. Пьет чай какой-то старикашка, сухой, сердитый, с кудреватыми волосами, в сереньком сюртуке. Такой неприглядный. «Должно быть, из земского суда», — думаю… Подошел я к столу, шапку положил, шарф с шеи размотал — тоже на стол. Обернулся, вижу: смотритель стоит, как вкопанный.