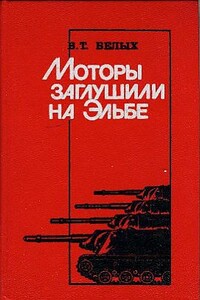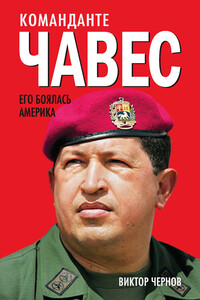Октав Панку-Яш Уполномоченный по срочным делам
Стой! Документы!
Я был твердо уверен, что мой голос и оружие заставят человека остановиться. Он шел впереди длинной вереницы телег, сгорбившись, опираясь на палку. За все время, пока я следил за ним, он ни разу не поднял голову и еле волочил ноги. Я насчитал за ним десять телег, покрытых брезентом и запряженных тощими изнуренными лошадьми. Первая лошадь хромала, в ее движениях было что-то общее со стариком, не хватало только палки.
Суровый и беспощадный, я ждал, мысленно повторяя слова, которые собирался крикнуть, приставив к его груди острие оружия.
Старик остановился и ласково посмотрел на меня. То, что мне казалось совершенно естественным, не удивило и его.
Мне было пятнадцать лет, я не был еще даже комсомольцем. Только собирался им стать. В апреле 1944 года доктор Г. «передал» меня рыжему парню — электрику трамвайного депо. До этого я получил всего два задания: собирал медикаменты для «Красной помощи»[1] и отнес на станцию чемодан, о содержимом которого не имел представления. Знал только, что на платформе ко мне подойдет железнодорожник и скажет: «Ты слишком мал, детка, для такого чемодана», на что я отвечу: «Помогите мне, дяденька, мама в последнем вагоне».
Электрик дал мне в начале августа боевое задание.
— Раздобудь где-нибудь сапожное шило. Или, еще лучше, наточи сам какой-нибудь железный прут. В Яссах полным-полно грузовиков с отступающими немцами. Сделай так, чтобы некоторые из них застряли здесь.
Я не стал спрашивать — как. Через несколько часов длинный кусок толстой стальной проволоки, заостренный с одного конца и загнутый кольцом с другого, стал моим первым оружием.
— Ну что, идет? — спросил меня электрик через несколько дней.
— Идет…
— Сколько?
— Пять.
— Покрышек?
— Нет, грузовиков. Пять или четыре…
— Браво!
— Да еще три покрышки на маленькой машине «мерседес-бенц»…
— Это перед дворцом-то?
— Откуда ты знаешь?
— Знаю…
Оружие, мое первое оружие привело меня вечером 22 августа в штаб «Патриотической обороны»[2]. Город еще горел. Но пожар терял силу, у него уже почти не оставалось пищи. Огонь ослабел, но еще не сдался, его возмущало предательство ветра, который сначала помогал ему, но затем, напуганный размерами бедствия, дезертировал и скрылся.
Два дня назад американцы сбросили на город зажигательные шашки. Главным объектом они избрали крытый рынок, где торговали мясом и овощами. Огонь уничтожал без разбора людей, лавки, лошадей, телеги и даже асфальт. Ветер гнал пламя по узким улицам и подкармливал его обломками домов, трупами людей, лошадей и деревьев.
Борьба за освобождение города началась в тот же день. Советские танки двигались по узким кривым улочкам среди пламени и развалин. Люди выходили из подвалов, из дворов и черных провалов окон и встречали танки с тем глубоким ощущением радости, которая в первый момент сдерживает тебя, но потом прорывается бурно и неудержимо, переходя от слез к крикам «ура!».
Отступая, немцы устраивали засады за каждой стеной, каждую улицу превращали в огнедышащую пасть. В раскаленном воздухе все дрожало от взрывов гранат и пронзительного воя пуль. Клубы черного дыма неслись над городом, как стада обезумевших голодных хищников.
22 августа последние гитлеровские банды в городе были ликвидированы. На еще дымящихся стенах появился призыв «Патриотической обороны» спасать город. Призыв был обращен ко всем и «в первую очередь к вышедшим из подполья борцам за свободу». Я считал, что мое оружие, которое я держал в руке, дает мне основание отнести себя к категории «в первую очередь».
Штаб «Патриотической обороны» обосновался в старом помещичьем особняке, мало отличавшемся теперь от других уцелевших зданий. На его закопченных, изрешеченных пулями стенах уже появились написанные углем русские слова — «мин нет».
Среди просторного двора, где клонился, как колодезный журавль, подкошенный снарядом тополь, теснились сотни людей. В группе, старавшейся проникнуть в здание через черный ход, я заметил рыжую голову моего электрика. Я окликнул его, и он махнул мне рукой, предлагая подождать. Но ожидать в этой толкотне, особенно после того, как прошел слух, что «оружия на всех не хватит», оказалось выше моих сил. Я считал, что те, кто пробьются, получат оружие, остальные останутся с носом. При мысли об этом я заметался по двору, перебегая от группы к группе, нетерпеливо расталкивая людей.
— Поосторожнее, парнишка, — попытался осадить меня высоченный смуглый мужчина с обмотанной грязным бинтом левой рукой. — Не лучше ли тебе пойти домой?
— Домой? Сам иди домой!
Моя грубость не возмутила его. Потянув меня слегка за волосы; он сказал с обезоруживающей мягкостью:
— Четыре года у меня был дом с решеткой на окне, пять шагов в длину, три в ширину и «параша» в углу. Туда, мой мальчик, я не вернусь до скончания века. Мой дом теперь здесь, и идти мне некуда.
Он приподнял мне пальцем подбородок, щелкнул по носу и отошел к тем, кто уже получил оружие и строился в глубине двора. Какой-то тщедушный человечек в военном френче до колен жаловался, что выдали слишком мало патронов.
— Только три патрона, — сетовал он.