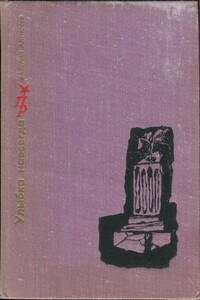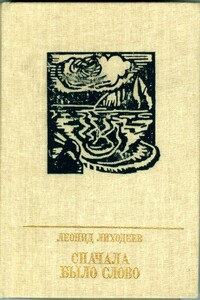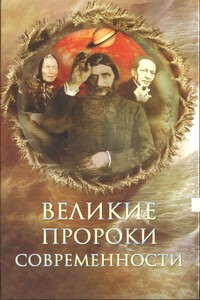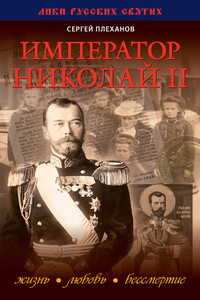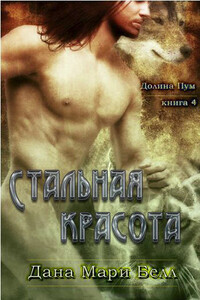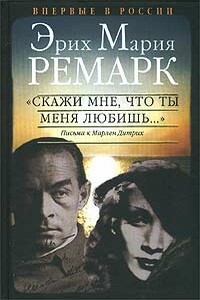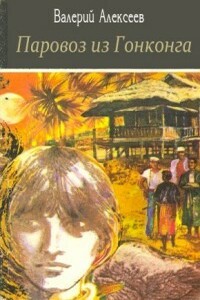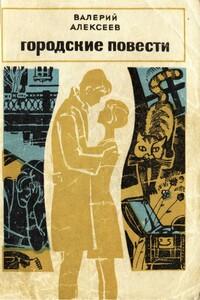Первым о решении Совета помилования Никосу сообщил адвокат Цукалас. Утром 29 марта по его вызову Никоса привели в адвокатскую комнату. Цукалас молча кивнул, подождал, пока надзиратель, кряхтя и вздыхая, не устроился на стуле у дверей. Потом адвокат сел рядом с Никосом и, все еще не говоря ни слова, положил руку ему на колено.
Никос понял все сразу. Сердце его сжалось, но только на секунду. Пошевелив скованными руками (за пределами отделения смертников ему сразу же надевали наручники), Никос попытался взглянуть на часы, но ремешок часов был слишком просторен для худого запястья, часы сбились набок, и поправить их ему не удалось: кисть правой руки плохо слушалась еще со времени Граммоса, когда пуля перебила ему сухожилие предплечья.
— Десять пятнадцать, — сказал Цукалас, — но, по-моему, часы считать еще рано.
Никос обвел взглядом адвокатскую комнату: огромное (по сравнению с одиночкой) помещение, тяжелый стол, вокруг которого в чинном порядке расставлено не меньше дюжины стульев — как будто в этой комнате только что закончилось заседание самого Совета.
— Конечно, положение несколько осложнилось, — помолчав, продолжал Цукалас, — четыре смертных приговора подтверждены. Белояннис, Калуменос, Бацис и… — адвокат сделал паузу, — и Аргириадис.
Цукалас остро взглянул на Никоса — Никос не шевельнул и бровью. Отвернувшись, он внимательно рассматривал забранное чудовищно толстой решеткой окно.
— Вас это не удивляет? — спросил Цукалас.
— Что именно? — переспросил Никос. — Ах, это… Я был почти уверен, что нас расстреляют с Аргириадисом в паре — именно нас двоих, для достоверности. Но, видимо, двоих господам из Совета показалось мало.
— Но сам факт, — с нажимом проговорил Цукалас, — сам факт, что из восьми смертных приговоров осталось только четыре, о чем-то говорит. Как вы полагаете?
— Я полагаю, что у этого решения только один смысл: «Мы сделали все, что могли, чего же еще от нас хотят?» Его величество может сделать великодушный жест и сократить число приговоров до двух — тогда-то и останемся мы с Аргириадисом. Я как-то уже свыкся с мыслью, что умирать нам придется с ним вдвоем.
— Ну, разумеется, — сказал Цукалас, — решение Совета не неожиданно, в то время как вся страна ждала именно неожиданности. Наша беда в том, что завтра воскресенье и мы на целые сутки выходим из игры. Все двери, в которые можно стучаться, будут закрыты. Но, с другой стороны, в этом и наша надежда.
— Четвертая заповедь? — поинтересовался Никос.
Цукалас утвердительно склонил голову.
— В истории страны, — сказал он со значением, — не было еще ни одного случая, когда бы расстреливали в воскресенье. Даже оккупанты, насколько я помню, этого не делали.
— «Шесть дней делай, день же седьмой господу богу твоему», — как бы про себя заметил Никос. — Цукалас, дорогой, не забывайте, что оккупанты наводили порядок в чужой стране, а эти господа не покладая рук трудятся на благо своей собственной. Ради такой великой цели они не побрезгуют умыться нашей кровью в воскресенье на рассвете.
— Ну, не иронизируйте, — хмуро сказал Цукалас. — У этих господ, как вы их называете, есть свои принципы, и они от них не откажутся, даже ради вас. Хотя как личность вы, конечно, им далеко не безразличны. Поймите меня правильно, Никос: хладнокровие не всегда полезно. Обыватель ставит себя на ваше место, у него мурашки бегут по спине, а вы улыбаетесь, шутите, и люди начинают думать: здесь что-то не так. Наверно, этот человек знает нечто нам неизвестное, наверно, он на что-то рассчитывает. «Судите, судите, Коминформ меня выручит, и вы опять останетесь в дураках» — вот как можно истолковать эту улыбку. И ведь находятся люди, которые на этом играют, они на этом строят целую линию нападения. Смотрите, как он спокоен, — говорят они, — как он уверен в своей безнаказанности! Ничего, мы собьем с него эту красную спесь. И, уверяю вас, обыватель, существование которого вы упорно отрицаете, не без злорадства раскрыл вчерашнюю вечернюю газету: ну, ну, посмотрим, что сможет теперь сделать его вездесущий Коминформ. Хаму неведомо хладнокровие: хам может быть только наглым. Вот почему он не поймет вашей улыбки.
— Не кажется ли вам, — спросил после паузы Никос, — что мы как-то не ко времени затеваем этот бесплодный диспут? С Элли вы еще не разговаривали?
— Да, да, конечно, — поспешно согласился Цукалас, — будем говорить только о деле. Госпожа Иоанниду уже вызвана мною и придет сюда сразу после вас. А что касается надежд на будущее — то на тридцать первое марта, то есть на понедельник, назначено заседание Святейшего Синода. Святые отцы не преминут воззвать к милосердию, и уверяю вас…
— До понедельника еще надо дожить, — заметил Никос. — Я попросил бы вас по возможности успокоить Элли.
Цукалас рассердился:
— Я вижу, вам нравится мысль, что вы будете расстреляны в воскресенье на рассвете, в порядке исключения?
— Ну, «нравится» — не то слово, — сказал Никос. — Я допускаю, что решение Совета было объявлено в субботу совершенно случайно. В таком случае может сработать и четвертая заповедь, а почему бы нет? Этот довод достаточно нелеп, но не более нелеп, чем исходное предположение. Но возможен и другой вариант, который я не имею права отбрасывать: решение Совета было подогнано под воскресенье с определенным расчетом — создать впечатление, что еще есть время, что исполнение приговора фактически откладывается, а в воскресенье утром, уже после нашей казни, развести руками: военное ведомство перестаралось, вы же знаете этих бравых служак! Согласитесь, что в этом варианте для четвертой заповеди просто не остается места.