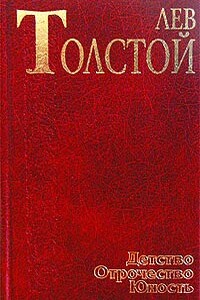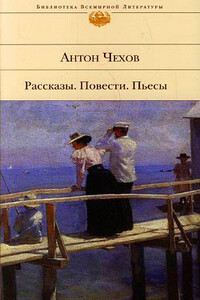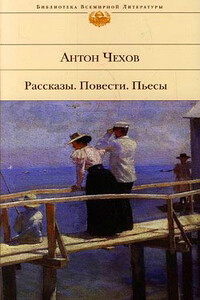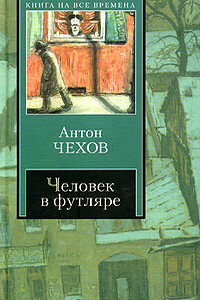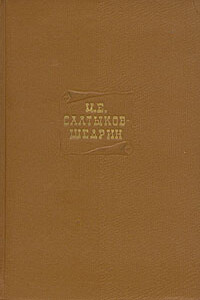Закрываю книгу. Вечер крадется, тускнеет свет, читать трудно.
В сердце звучат грустной жалобой последние прочитанные слова:
«Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды…»
[1]Из темной глуби веков доносится этот тоскующий мотив, такой знакомый, так близко понятный родственной горечью своей. Не оттого ли глаза вдруг застлались туманом? — слились и странно закачались строчки?..
За переплетом решеток, в небольшом квадрате окна — кусочек бледнеющей лазури, — тихий, кроткий свет предзакатный глядит в камеру. На сводчатом потолке, на мутной зелени замызганных стен — золотисто-алые блики и робкие тени оконной рамы. Где-то там, на воле, закатывается солнце, звенит резвый детский смех, деловито ворчит город, гремят конки, свистят пароходы, веселая идет суета, жизнь блещет всеми красками, звучит всеми звуками. А тут?..
«Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды…»
Сжимается сердце. Воспоминания наплывают, тихо проходят перед глазами необозримым караваном, встает знакомая вечерняя печаль, слезы закипают в сердце… И уходит вдаль широкий, пестрый поток городских звуков, меркнет, замирает. Тускнеет алое золото на сводчатом потолке, качаются холодные, обмызганные стены…
Бом-м-м!..
Медный, певучий удар бухнул с высоты, из кроткой, водянистой лазури. Залетел в камеру… И долго трепетал и тихо жаловался воздух, разбуженный им.
И еще раз… гулко всколыхнулась медная волна и покатилась вдаль, качаясь и замирая. Вот чуть уже слышна она в бесконечной цепи пестрого, сухого треска. Может быть, уже угасла, но еще чудится в взволнованной памяти слуха.
Завтра праздник. Ставлю табуретку к стене, подымаюсь к окну, — люблю послушать торжественный переговор колоколов, спокойно-звонкую их речь над грубым грохотом суетной жизни.
Сейчас будет третий удар, польется и там, и там благовестный призыв к жертве вечерней. Вот: бом… бом… бом…
Толстый, седой надзиратель Хопрячков, заведующий слесарной мастерской, снял фуражку, помотал перед своей бородой широкой горстью — перекрестился несколько раз и красным платком вытер вспотевший лоб. Потом угрожающе закричал на арестантов, бросивших работу.
— Сбирай струмент! Струменту не оставляй, гляди у меня!..
И равнодушно ввернул крепкое слово.
Кончен трудовой день. Завтра праздник. Что-то теперь на воле? Что-то на моей далекой родине? Купается ли сейчас белая сельская церковка в алом свете заходящего солнца? Тает ли медный звон за сизою рощей, над шепчущей осокой озера? Спешат ли старушки с худыми, землистыми лицами, в темных платочках, с тоненькими желтыми свечками в руках — в наш тесный, старый «храм воздыханий, храм печали»?..
Мерно гудит — поет колокол за нашим крестообразным корпусом. Ровными взмахами слетают могучие, мягкие звуки медной груди и свободно текут певучей цепью, затопляя трескучий шум города. Жужжит, поет протяжную песнь воздух, колышется мерными волнами и глухо жалуется, посылая их в неведомую даль. Мгновеньями звуки как будто отодвигаются за толстые стены, глохнут, уходят в город с его шумом и грохотом. Мысль бежит за ними по людной улице, заглядывает в двери магазинов и пивных, в раскрытые окна швейных мастерских и казарм. Ей завидно и горько…
Но вот они опять поворачивают ко мне, певучие, ласковые, радостно-звонкие, к моему окну с двумя решетками, яснеют, улыбаются, зовут… Дальнее, светлое детство встает вдруг в памяти: кружатся голуби в бездонной лазури, в теплом свете, мгновенными белыми всплесками трепещут их крылья, радость дрожит и смеется в сердце…
Из мастерской выходят арестанты в парусиновых куртках. Толкаясь и обгоняясь, бегут по двору, строятся во фронт, в две шеренги. Смех, шумный говор, крепкие слова… Народ все молодой, жизнерадостный, весело-циничный.
Старик Хопрячков замыкает дверь и тяжелой походкой, наклоняясь вперед и не разгибая старых колен, подходит к фронту. Спина у него широкая, выгнута дугой, револьвер низко оттянул ремень и мягкий, нависший над пряжкой живот подрагивает, как студень, когда он начинает считать арестантов, шлепая широкою ладонью по груди каждого очередного:
— Пара… две… три…
Арестанты весело скалят зубы, вставляют острые словечки, сбивают Хопрячкова со счета, очень похоже передразнивают его голос и фигуру. Хопрячков останавливается и ругается, грозно мотая головой. Ругается он артистически и с увлечением. Во всякое время и по всякому случаю ругается: когда дает совет от зубной боли, когда одолжает спичку — закурить папиросу, когда рассказывает что-нибудь божественное или назидательное, когда ведет с арестантами отвлеченный спор о том, природа ли «ударяет» науку, или наука природу… На днях, 8-го июля, я слушал, он рассказывал двум арестантам, рубившим на куски железную полосу, — о важном значении праздника Казанской Божьей Матери, — в тюрьме его не праздновали, и это, видимо, огорчало старика. Говорил он о каком-то помещике, который на Казанскую сбирал сено, а Пресвятая Богородица наказала его за это пожаром. От скуки я стал считать, сколько крепких выражений ввернет Хопрячков во время этого рассказа. Насчитал до двадцати и бросил…
— Напра-а-во! — окончив поверку, лениво командует Хопрячков густым голосом, и сейчас же из арестантских рядов кто-то очень похоже передразнивает его.