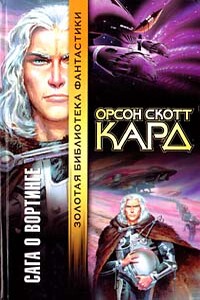– Никаких речей, – предупредил прокурор.
– Я на это и не рассчитывал, – стараясь казаться уверенным, ответил Джерри Кроув.
Особенной враждебности прокурор не выказывал и скорее походил на школьного режиссера, чем на человека, жаждущего смерти Джерри.
– Вам не только не позволят это, – но более того, если вы выкинете какой-нибудь фортель, то вам же будет хуже. Вы у нас в руках. Доказательств у нас более чем достаточно.
– Вы же ничего не доказали.
– Мы доказали, что вы знали об этом, – мягко настаивал прокурор. – Знать о заговоре против правительства и не сообщить о нем – это все равно что самому участвовать в заговоре.
Джерри пожал плечами и отвернулся. Камера была бетонная, двери стальные. Вместо койки – гамак, подвешенный крючьями к стене. Туалетом служила жестянка со съемным пластиковым сиденьем. Убежать было невозможно. Фактически ничто в камере не могло заинтересовать интеллигентного человека более чем на пять минут. За три проведенных там недели Джерри выучил наизусть каждую трещину в бетоне, каждый болт в двери. Смотреть ему, кроме прокурора, было не на что, и он неохотно встретился с ним взглядом.
– Что вы скажете, когда судья спросит, признаете ли вы предъявленное вам обвинение?
– Nolo conterdere [не желаю спорить (лат.)].
– Очень хорошо. Было бы гораздо лучше, если бы вы сказали «виновен», – посоветовал прокурор.
– Мне не нравится это слово.
– А вы его на всякий случай запомните. На вас будут направлены три камеры – планируется прямая передача судебного заседания. Для Америки вы представляете всех американцев. Вы должны держаться с достоинством, спокойно принимая факт, что ваше участие в убийстве Питера Андерсона…
– Андреевича…
– Андерсона и привело вас к смерти, что теперь все зависит от милости суда. Я отправляюсь на ленч. Вечером встретимся снова. И помните. Никаких речей. Никаких фокусов.
Джерри кивнул. На препирательства не оставалось времени.
Вторую половину дня он провел, практикуясь в спряжении португальских неправильных глаголов. Было грустно от того, что нельзя вернуться в прошлое и переиграть тот момент, когда он согласился заговорить со стариком, который и раскрыл ему план убийства Андреевича. «Теперь я должен вам верить, – сказал старик. – Temos que confiar no senhor americano [мы должны надеяться на американцев (португ.)]. Вы же любите свободу, нет?»
Любите свободу? А кто ее помнит? Что такое свобода? Когда ты свободен, чтобы заработать доллар? Русские прозорливо уловили: дай только американцам делать деньги, и им, право же, будет наплевать, на каком языке говорят члены правительства, а тут еще и члены правительства говорят по-английски.
Пропаганда, которой его напичкали, вовсе не так уж забавна. Слишком все хорошо, чтобы быть правдой. Никогда еще Соединенные Штаты не были столь мирными. Со времен бума, вызванного войной во Вьетнаме, такого процветания в стране не было. И ленивые, самодовольные американцы по-прежнему занимались делом, как будто им всегда хотелось, чтобы на стенах и рекламных щитах висели портреты Ленина.
«Я и сам особенно ничем от них не отличался», – подумал Джерри. Отправил заявление о приеме на работу вместе с заверениями в преданности. Покорно согласился, когда меня определили в учителя к высокому партийному функционеру. И даже три года учил его чертовых детишек в Рио.
А мне бы стоило писать пьесы.
Только какие? Ну вот, например, комедию «Янки и комиссар» – о женщине-комиссаре, которая выходит замуж за чистокровного американца, производителя пишущих, машинок. Женщин-комиссаров, разумеется, нет, но надо поддерживать иллюзию об обществе свободных и равных.
«Брюс, дорогой мой, – говорит комиссаре сильным, но сексапильным русским акцентом, – твоя компания по производству машинок подозрительно близка к получению прибыли».
«А если б она работала с убытком, ты бы меня посадила, дурашечка ты моя?» (Русские, сидящие в зале, громко смеются, американцам не смешно – они бегло говорят по-английски, и им не нужен бульварный юмор. Да, все равно, пьеса должна получить одобрение Партии, так что из-за критики можно не переживать. Были бы счастливы русские, а на американскую публику начхать.) Диалог продолжается:
«Все ради матушки-России».
«Трахать я хотел матушку-Россию».
«Трахни меня, – говорит Наташа. – Считай, что я ее олицетворение».
Да, но ведь русские и впрямь любят секс на сцене. В России-то он запрещен, а с Америки что возьмешь, разложилась вконец.
С таким же успехом я мог бы стать дизайнером в Диснейленде. Или написать водевиль. А то и просто сунуть голову в печь. Только она непременно окажется электрическая – такой уж я везучий.
Рассуждая таким образом, Джерри задремал. Открыв глаза, он увидел, что дверь в камеру открыта. Затишье перед бурей кончилось, и вот теперь – буря.
Солдаты не славянского типа. Рабски покорные, но явно американцы. Рабы славян. Надо непременно вставить как-нибудь в стихотворение протеста, решил он. Впрочем, кто их станет читать, стихотворения протеста?
Молодые американские солдаты («форма на них какая-то не такая, – подумал Джерри. – Я не настолько стар, чтобы помнить прежнюю форму, но эта скроена не для американских тел») провели его по коридорам, поднялись по лестнице, вышли в какую-то дверь и оказались на дворе, где его посадили в бронированный автофургон. Неужто они и впрямь считают, что он член заговорщицкой организации и что друзья поспешат ему на выручку? Будто у человека в его положении могут быть друзья?