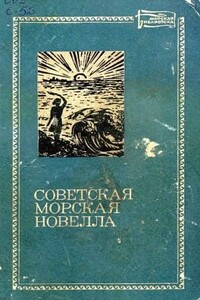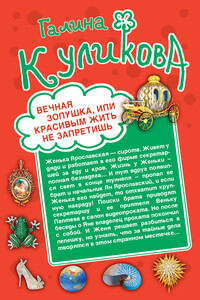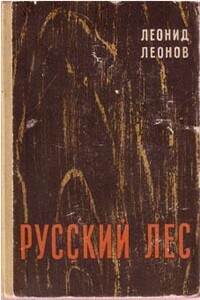Арба, имеющая две оглобли, идет прямо и хорошо. Арба моего счастья имела только одну.
Мать моя — Зенбиль-ханым. Верблюд, который принес мою жизнь, унес ее. Она была из поколения Кенкит. Она была бурджигин. Я — сын Дарбутая, который был сын Аймура, сына Ярим-Шир-Букангу, — мир ему. Я родился на месте Кадан-Тайши, где потом в семидесяти котлах варил Чингис мятежных тайджутов, где за полосами рыжего песку лежит белая гора, — ее зовут Кунукмар, потому что она все равно что нос большого убитого человека.
Когда родился я, никто не сказал: «Вот родился, который будет счастлив, у него голубое лицо». Но все говорили: «Вот родился улуг-дудурга», — так как в руке моей был зажат комок крови. И потому я плакал тогда так сильно.
Я — Туатамур, тенебис-курнук и посох Чингиса. Это я, чья нога топтала земли, лежащие по обе стороны той средины, которая есть средина всему. Это я, который пронес огонь и страх от Хоросана до Астрабада, от Тангута до земли Алтан-хана, который сгорел в огне.
Мы — тьма, мы идем твердо. Это я, который вместе с Джучи-ханом, сыном Солнца, уничтожил имя страны Тумат, где сидел сильный Татула-Сукар, и попалил землю найманов. Вместе с Джагатаем, который убит у стен Бамиана, я измерил высоты гор глупых меркитов. Токтабики бежал к найманскому Буюруку, а потом за Ыртышь. Я догнал, я зарыл его в землю. Сабля Тули-хана и моя сарцинская сабля выбрили наголо поля выносливых джурджитов, поклоняющихся камню и умеющих делать из овечьего молока напиток, который поднимает уставшего в бою. Копыта моих коней растоптали зеленые равнины джабдалов, — у них кожа черна от солнца, они умеют камнем пробить грудь врагу на расстоянии пяти полетов копья.
Я сказал, — вот одиннадцать сулданов, двенадцатым сулдан Эврума, платят исправно ясак в сорок тысяч эшрефов каждый год. Я ударил, — вот балдакский кариф стал ежегодно присылать тюки серебряных мискалей, стада верблюдов, много алого сукна, бахты и ковров. Я сказал и ударил, — вот галапский сулдан, Сари-Махмуд, отдал Чингису дочь, ее имя Сероктен, она была подобна луне. Когда отдавал — плакал и ел землю, но Сероктен родила Ытмарь. Да будет неувядание красоты ее всюду, и там, куда ушла!
Я — Туатамур, тень смерти и радость каана. Я приносил ему добычу и те цветы, какие есть в степях. Каан любил меня, покуда не выпали мои острые зубы и не взошла над степями гордая звезда Кирагая-юлаши.
И вот я лежу у шатра чужой жены, солнце лижет мне темя, а если бы хвост был у меня, — я вилял бы им, потому что — ныне кто назовет меня иначе, чем дряхлой собакой Чингиса, ушедшего в закат?
Вот слушайте: я любил Ытмарь, дочь хакана. Чингис, покоритель концов, — да не узнают печали очи его, закрывшиеся, как цветы дерисунха, на ночь, чтоб раскрыться утром! — отдал бы ее мне. Это я, который снял бы с нее покрывало девства, когда б не тот, из стороны, богатой реками, Орус, который был моложе и которого борода была подобна русому шелку, а глаза — отшлифованному голубому камню из лукоморий Хорезма.
Пусть засыплют песком мою кровь, — слушайте! Так говорит Туатамур, последняя собака и тень Чингиса.
Ытмарь, дочь каана!
Она не носила кызыл-джаулык, ее волосы видели все, кто хотел видеть. Они были черны и свешивались с седла. Но ее лук весил десять батманов.
Ытмарь, — она была гибка, как павлинья джига праздничного феса мурзы. Она скакала по степи верхом, быстрая, подобная камню, выпущенному из пращи. Никакой ветер не мог ссадить ее со скакуна.
Она не страшилась боли нисколько. Аммэна, — когда тяжелая стрела найманского барласа приколола ступню ее к боку лошади, — я видел: поднялся на дыбы ужаленный жеребец, усмешкой удлинились губы Ытмари. Тогда догадался я, что пьяны и сладки поцелуи Ытмари, как первое молоко кобылиц.
Ее внимательно слушали в собраниях грая древние мурзы и атабеки, качая вышитыми тубетеями, — не потому только, что была она дочь каана.
Смятые, растерявшие стрелы и надежды, ряды моих дада, моих нукеров, устремлялись вперед по ее первому зову — не потому только, что был ее голос тверд, как красный камень в тюрбане хоросанского Джеллаледдина, и нежен, как качанье бубенца в теплом ветре весны.
Бросался, распахнув руки, на копья трех Мстислабов, ища смерти, Туатамур, — не потому только, что надоело старому тенебису-дудырге видеть, как, прекрасная, орошает сожженную степь луна, и слушать, как мурлычет на вечернем ложе любовную песню маленькая Бласмышь, прося ласки.
Ытмарь, дочь каана! Когда б хаканом я был, я прославил бы с минаретов Хорезма губы твои. Я выбрал бы среди молодых земли — красивейшего, я вырвал бы сердце из него, чтоб не смело оно биться для другой.
Дочь каана!
В год Коровы, когда кибитка третьего полнолунья той осени остановилась над улусами Иллиджака, — Дурбан, инак хакана, пришел в мой шатер и сказал:
— Великий хакан хочет, чтобы Туатамур, тенебис, пришел к хакану.
Я встал. Я надел синюю джапанчу. Я пошел в шатер каана.
Тогда был вечер, как и теперь. Невдалеке за ордой, по ту сторону стана, плакала в сукае ночная птица. Был треск, — бурханы били в две палки, а в стане звонко доили кобылиц.
Я распахнул белый занавес. Я трижды упал ниц. Я поднял голову. Я увидел хакана. Чингис — мир ему! — лежал на ложе из белого войлока и глядел в прорезь шатра. Он думал. За шатром ночь вышивала небо бисером, подобно Ытмари, которая возле хаканского тахта вышивала синий халат отцу. Она вышивала турпана, пожирающего птенца. Она не взглянула на меня. Она журчала песню неполным голосом, а мне показалось, что моя Бласмышь поет эту песню лучше, чем Ытмарь. Тогда Туатамур еще ласкал Бласмышь и тех тридцать, которые баюкали сон Туатамура, а среди них Нунашь.