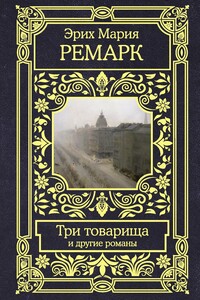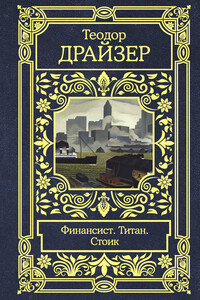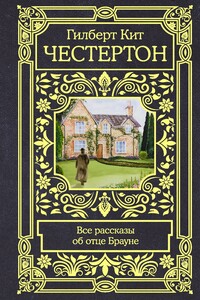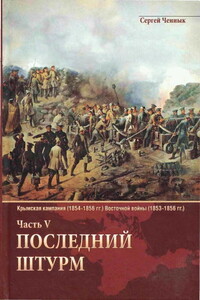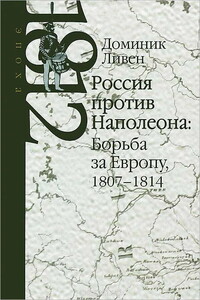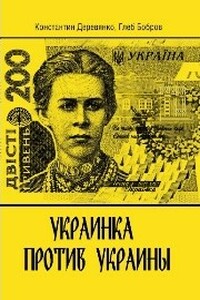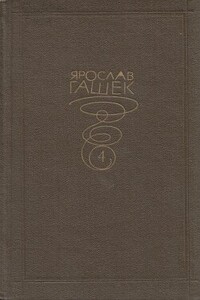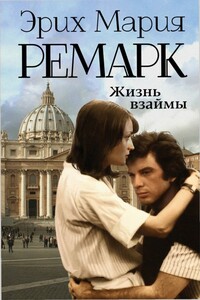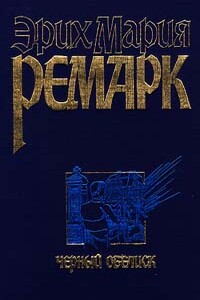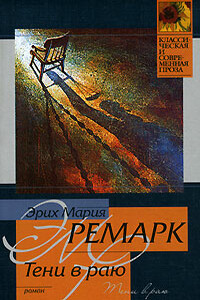Небо, еще не закопченное дымом печных труб, отливало латунной желтизной. Над крышами фабрики оно светилось сильнее. Солнце вот-вот должно было взойти. Я взглянул на часы. Восьми еще нет. Без четверти.
Я открыл ворота и подготовил насос бензоколонки. В это время обычно подъезжают первые машины на заправку. Неожиданно позади меня послышалось какое-то хриплое поскрипывание — будто под землей прокручивали ржавый ворот. Я остановился, прислушался. Потом прошел через двор в мастерскую и тихонько приоткрыл дверь. Там в полутьме маячила какая-то призрачная фигура. Грязноватая белая косынка, синий фартук, толстые шлепанцы, шаркающая метла, килограммов девяносто весу — не иначе как наша уборщица Матильда Штосс.
На какое-то время я застыл, наблюдая. Она двигалась меж радиаторов с грацией бегемота и глухим голосом распевала песенку о верном гусаре. На столе у окна стояли две бутылки коньяка. В одной из них осталось на донышке. Накануне вечером бутылка была полной. Я забыл запереть ее в шкаф.
— Ай-ай-ай, фрау Штосс, — сказал я.
Пение оборвалось. Метла упала на пол. Блаженная ухмылка потухла.
— Господи Иисусе, — пролепетала Матильда, уставившись на меня красноватыми глазами. — Вот уж не ожидала…
— Понятно. Ну и как коньячок? Понравился?
— Да уж что говорить… но мне как-то не по себе. — Она вытерла губы. — Прямо языка лишилась…
— Ну, это уж слишком. Вы просто пьяны. Пьяны в стельку.
Она с трудом удерживала равновесие. Усики над ее верхней губой подрагивали, а веки хлопали, как у старой совы. Но вот наконец ей удалось совладать с собой, и она решительно шагнула ко мне.
— Слаб человек-то, господин Локамп, сначала я только понюхала, потом отхлебнула чуток — для пищеварения, а тут, тут уж черт меня и попутал. Да и то сказать — гоже ли так вводить бедную женщину в соблазн? Пузырек-то ведь на самом виду…
Я не впервые заставал ее в таком виде. Она приходила каждое утро часа на два, убирать мастерскую; деньги, в любом количестве, можно было не запирать — она их не трогала, а вот спиртное действовало на нее, как сало на крысу. Я посмотрел бутылку на свет.
— Ну разумеется — коньяк для клиентов вы не тронули. Налегли на тот, что получше, который господин Кестер держит для себя.
Помрачневший было лик Матильды опять озарила ухмылка.
— Что верно — то верно, в таких вещах толк я знаю. Но ведь вы не выдадите меня, господин Локамп? Вдову горемычную?
Я покачал головой:
— Сегодня не выдам.
Она выпростала подоткнутые юбки.
— Ну, тогда мне лучше скрыться. А то придет господин Кестер — такое начнется!..
Я подошел к шкафу и открыл его.
— Матильда!
Она, переваливаясь, поспешила ко мне. Я поднял коричневую четырехгранную бутылку.
Она протестующе замахала руками.
— Это не я! Честное слово! К этой я и не прикасалась!
— Знаю, знаю, — сказал я и налил ей полную стопку. — А пробовали когда-нибудь?
— Еще бы! — облизнулась она. — Ром! Старинный, ямайский!
— Отлично! Вот и выпейте стаканчик!
— Я?! — Она даже отпрянула. — Ну уж это слишком, господин Локамп! Все равно что пустить человека босиком по углям! Старуха Штосс втихаря дует ваш коньячок, а вы ее еще ромом потчуете за это. Да вы просто святой, ей-богу! Нет уж, лучше помереть, чем пойти на такое!
— Ну как знаете, — сказал я и сделал вид, будто собираюсь поставить стаканчик на место.
— Эх, была не была! — Она чуть не вырвала его у меня из рук. — Дают — бери! Даже если незнамо за что дают. Ваше здоровье! А может, у вас день рождения?
— Да, Матильда. Угадали.
— Неужто правда? — Она схватила мою руку и стала трясти ее. — От души поздравляю! Дай вам Бог всего, а главное — тити-мити! — Она вытерла губы. — Нет, вы так растрогали меня, господин Локамп! За это не грех бы и еще одну пропустить. Раз такое дело. Ведь я люблю вас как сына.
— Вот и чудесно.
Я налил ей еще стопку. Она выпила ее залпом и тут же покинула мастерскую, изливая потоки восторгов.
Я убрал бутылку и сел к столу. Сквозь окно на мои руки падал бледный луч солнца. Странная это все же вещь — день рождения, даже если не придаешь ему никакого значения. Тридцать лет… А ведь было время, когда я думал, что и до двадцати-то не доживу — уж слишком далеким это казалось. А потом…
Я вынул из ящика лист почтовой бумаги и занялся арифметикой. Детские годы, школа — где ж это было, когда, да и было ли вообще? Настоящая жизнь началась только в 1916-м. Меня как раз призвали на военную службу; тощий, долговязый, восемнадцатилетний, я бросался наземь и вскакивал по команде усатого фельдфебеля, гонявшего нас по вспаханному полю позади казарм. В один из первых же вечеров в казарму навестить меня приехала моя мать, но ей пришлось прождать больше часа. Я нарушил предписание, укладывая ранец, и должен был в наказание драить толчки в свободное время. Мать хотела помочь мне, но ее не пустили. Она все плакала, а я так устал, что заснул во время свидания.