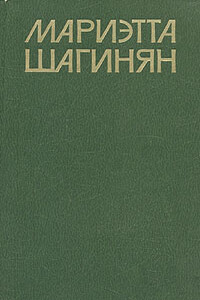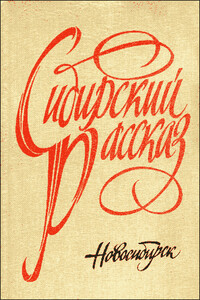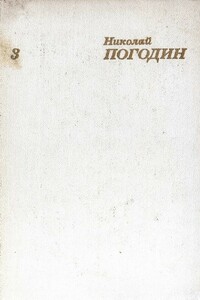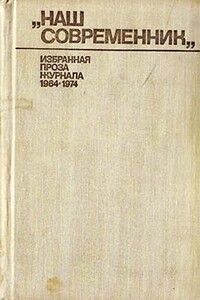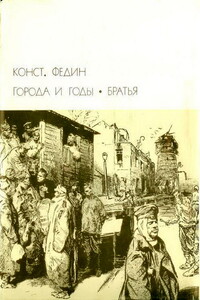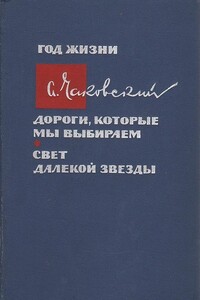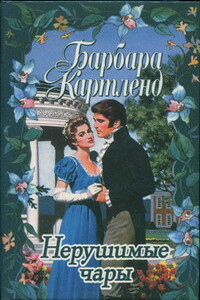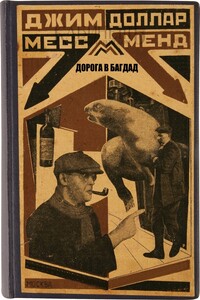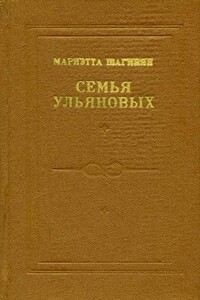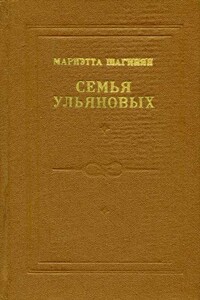Было это в Ленинграде, в самый разгар кампании по поднятию производительности труда. Губсоюз текстильщиков переживал тревожные дни. Дано задание: перевести работниц хлопчатобумажных ткацких фабрик с двух станков на три. А чтоб понять всю сложность этого задания и всю его деликатную сторону, надлежало только побывать в самом штабе ленинградской армии текстильщиков — в губсоюзе, где вы могли на каждом заседании видеть легендарнейших людей, когда-то делавших чудеса и подпольях Иваново-Вознесенска, Ярославля, Костромы, Орехово-Зуева и других текстильных районов. Почетным председателем союза был товарищ Тюшин, патриарх с головой Льва Толстого, с застенчивой детской улыбкой, большой, мягкий, — в высоких валенках, — старый рабочий чье прошлое похоже на сказку. Вы могли встретить на этих заседаниях старых текстилей, борцов двух революций, прошедших через тюрьмы, этапы, ссылки. Их биографии в архиве союза могли бы наполнить вас детским благоговением, а сам хранитель архива, товарищ Перазич, чья благородная седая голова и лицо, опрозрачненное тюрьмой, от утра и до вечера, изо дня в день склоняется над историческими документами союза, он мог бы тихим голосом, поблескивая голубым глазом, дополнить эти сухие письмена рассказами, врастающими в память. Так вот, эти легендарные люди когда-то подняли забастовку и зажгли рабочих как раз против того же самого задания: перевода с двух станков на три. Только задание это ставилось труду капиталом. А сейчас они же должны проводить собрания по ткацким фабрикам и убеждать рабочих идти на то, что оценивалось ими много лет назад как «гнусная эксплуатация, каторжный труд и новая петля, закинутая на шею трудящемуся». Понятно теперь, что положение было из рук вон трудно и что многим оно внушало тяжелые опасения.
Но что же это за штука — переход на три станка? Дело в том, что на ткацких фабриках обычная опытная ткачиха работает на двух станках, стоящих впереди и сзади нее так, что, оборотясь, она может от одного переходить к другому. Станок заправляется мастером, а чистится особой работницей-пропыльщицей. Ткачиха же работает между заправкой и прочисткой, и труд ее сводится к слежке, чтоб не порвалась в основе нитка, к выправлению напора ткани, к затыканию в челнок новой шпули. На американских фабриках техника стоит так высоко, что одна ткачиха справляется (если не ошибаюсь) с семью станками. У нас же за норму было принято два станка, и на них ставились работницы опытные, а новая ткачиха, пока не наловчится, справлялась только с одним станком.
Фабриканты давно задумывались над переходом к трем станкам. Это должно было принести огромную выгоду, сокращая рабочую силу на одну треть. А так как прибавка работницам обещалась самая ничтожная, то барыш оказывался тоже чуть ли не в целую треть. Но когда фабриканты вздумали вводить это новшество, оно вызвало целую бурю, революционизировало рабочих и было широко использовано подпольными работниками для агитации.
Пришла революция, выставила фабрикантов, отдала фабрику рабочим. И теперь Советская власть просит рабочий класс: помоги государству! Переходи на три станка!
Союзу предстояло теперь говорить с ленинградским пролетариатом — самой крепкой армией ткачей в мире.
На одной из фабрик (имени Ногина) было назначено делегатское собрание. Туда-то и поехали председатель союза, председатель треста, представители районного комитета, разные другие люди — словом, общественность и власть. Время было вечернее, зимнее, и сумрачный город в белесых тонах снега, на далекой окраине по Шлиссельбургскому тракту, в пустырях, параллельно с белой спящей Невой, вставал окончательным призраком. Автомобиль катился, как мячик, и казалось, будто он собирается комочком для прыжка в темноту, неизвестность и небытие. Справа и слева неслись мимо едущих исторические корпуса фабрик с цветным ожерельем огоньков, — фабрик, где вспыхивали бунты в самое глухое время реакции, где слышали осторожный говорок и видели родного Ильича еще задолго до того, как он поколебал мир. Вот наконец приземистые, старые, глазастые стены фабрики Паля, теперь ставшей имени Ногина. Автомобиль остановился. Приехавшие молча слезли.
Был очень холодный вечер, с морозом и лютым ветром. Но не успели озябшие приезжие вступить в залу, где назначено было собрание, как мгновенно согрелись и даже больше того — почувствовали испарину.
В зале было множество работниц, набившихся в нее так, что сидеть никто не мог, — все стояли, дыша друг другу в затылок. Воздух был невыносимо сперт. Жара стояла, как в бане. Для президиума, куда мы пробирались, не осталось ни единого стула, хочешь не хочешь, надо было стоять. Но прежде чем стать на место, следовало до него добраться, а это было трудненько.
Толпа работниц казалась разъяренной. Лица были красны, глаза сверкали. Нас встретили градом таких ругательств, что моя интеллигентская душа поджалась зайчиком. Невольно краешком глаз я глянула на члена райкома — тот шел как ни в чем не бывало, прислушиваясь на обе стороны и точно вбирая в себя ругательства, подобно тому как барометр принимает давление атмосферы. Хуже всех было плотному председателю треста. И его, и его трестовскую енотовую шубу крыли без всякого состраданья.