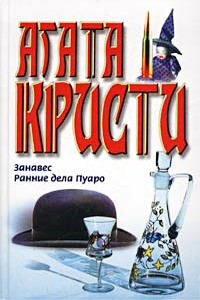В ноябре 1895 года в Реддингскую каторжную тюрьму был доставлен из Лондона в ручных кандалах знаменитый английский писатель Оскар Уайльд. Он был приговорен к нескольким годам заключения за «нарушение нравственности».
На вокзале в Реддинге вокруг Уайльда собралась толпа любопытных. Писатель, одетый в полосатую арестантскую куртку, стоял под холодным дождем, окруженный стражей, и плакал впервые в жизни. Толпа хохотала.
До тех пор Уайльд никогда не знал слез и страдания. До тех пор он был блестящим лондонским денди, бездельником и гениальным говоруном. Он выходил гулять на Пикадилли с цветком подсолнечника в петлице. Весь аристократический Лондон подражал Уайльду. Он одевался так, как Уайльд, повторял его остроты, скупал, подобно Уайльду, драгоценные камни и надменно смотрел на мир из-под полуприкрытых век, почти так, как Уайльд.
Уайльд не хотел замечать социальной несправедливости, которой так богата Англия. При каждом столкновении с ней он старался заглушить свою совесть ловкими парадоксами и убегал к своим книгам, стихам, зрелищу драгоценных картин и камней.
Он любил все искусственное. Оранжереи были ему милее лесов, духи милее запаха осенней земли. Он недолюбливал природу. Она казалась ему грубой и утомительной. Он играл с жизнью, как с игрушкой. Все, даже острая человеческая мысль, существовало для него как повод для наслаждения.
В Лондоне около дома, где жил Уайльд, стоял нищий. Его лохмотья раздражали Уайльда. Он вызвал лучшего в Лондоне портного и заказал ему для нищего костюм из тонкой, дорогой ткани. Когда костюм был готов, Уайльд сам наметил мелом места, где должны быть прорехи. С тех пор под окнами Уайльда стоял старик в живописном и дорогом рубище. Нищий перестал оскорблять вкус Уайльда. «Даже бедность должна быть красивой».
Так жил Уайльд — надменный человек, погруженный в книги и созерцание прекрасных вещей. По вечерам он появлялся в клубах и салонах, и это были лучшие часы его жизни. Он преображался. Его обрюзгшее лицо становилось молодым и бледнело.
Он говорил. Он рассказывал десятки сказок, легенд, печальных и веселых историй, пересыпал их неожиданными мыслями, блеском внезапных сравнений, отступлениями в область редчайших знаний.
Он напоминал фокусника, вытаскивающего из рукава груды пестрой ткани. Он вытаскивал свои истории, расстилал их перед удивленными слушателями и никогда не повторялся. Уходя, он забывал о рассказанном. Он бросал свои рассказы в подарок первому встречному. Он предоставлял друзьям записывать все, что они слышали от него, сам же писал очень мало. Едва ли сотая часть его рассказов была записана им впоследствии. Уайльд был ленив и щедр.
«В истории всего человечества, — писал об Уайльде его биограф, никогда еще не было такого замечательного собеседника».
После суда все было кончено. Друзья отшатнулись от него, книги были сожжены, жена умерла от горя, дети были отняты, и нищета и страдание стали уделом этого человека и уже не покидали его до самой смерти.
В тюремной камере Уайльд, наконец, понял, что значит горе и социальная несправедливость. Раздавленный, опозоренный, он собрал последние силы и закричал о страдании, о справедливосги и бросил этот крик, как кровавый плевок, в лицо предавшему его английскому обществу. Этот крик Уайльда назывался «Баллада Реддингской тюрьмы».
За год до этого он высокомерно удивлялся людям, сочувствующим страданиям бедняков, тогда как, по его мнению, следовало сочувствовать только красоте и радости. Теперь он писал:
«Бедняки мудры. Они сострадательнее, ласковее, они чувствуют глубже, чем мы. Когда я выйду из тюрьмы, то если в домах богатых я не получу ничего — \1ре подадут бедные».
Год назад он говорил, что выше всего в жизни искусство и люди искусства. Теперь он думал иначе:
«Много прекрасных людей — рыбаков, пастухов, крестьян и рабочих ничего не знают об искусстве, и, несмотря на это, они — истинная соль земли».
Год назад он выказывал полное пренебрежение к природе. Даже цветы полевую гвоздику или ромашку, — прежде чем приколоть к петлице, он красил в зеленый цвет. Их естественный цвет казался ему слишком крикливым. Теперь он писал:
«Я чувствую стремление к простому, первобытному, к морю, которое для меня такая же мать, как земля».
В тюрьме он мучительно завидовал натуралисту Линнею, который упал на колени и заплакал от радости, когда впервые увидел обширные луга нагорья, желтые от дрока.
Нужна была каторга, нужно было смотреть в лицо смертника, видеть, как избивают сумасшедших, месяцами, сдирая ногти, расщипывать по волокнам гнилые канаты, бессмысленно перетаскивать с места на место тяжелые камни, потерять друзей, потерять блестящее прошлое, чтобы понять, наконец, что общественный строй Англии «чудовищен и несправедлив», чтобы окончить свои записки такими словами:
«В обществе, как оно устроено теперь, нет места для меня. Но природа найдет для меня ущелье в горах, где смогу я укрыться, она осыплет ночь звездами, чтобы, не падая, мог я блуждать во мраке, и ветров завеет следы моих ног, чтобы никто не мог преследовать меня. В великих водах очистит меня природа и исцелит горькими травами».