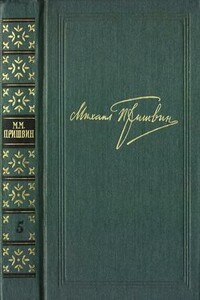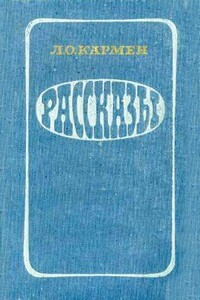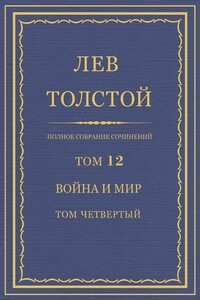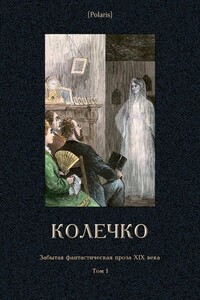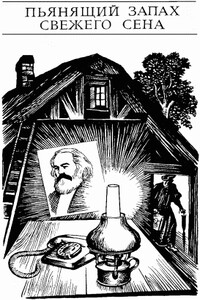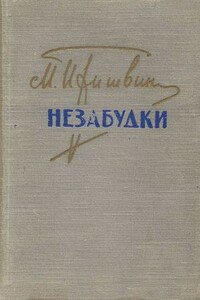Из дневника охоты 1926–1927
3 апреля <1926>.
Щенок, еще и месяца нет, бегает, играет. Вчера он сунулся в чашку, из которой ела мать, и та зарычала и так двинула своего сосунка, что он долго визжал. Так бывает у собак.
Вчера мы отдали Рема. Кэт не хватилась его, как и тогда, когда из шести мы оставили ей двух, ей нужно только одного, чтобы высасывал молоко, вот если всех отнять и молоко будет напирать, она будет очень страдать.
Надо это заметить, как нечеловеческий мир, близкий к той пустыне, которая открывается, когда думаешь о вечном движении Земли. Это все годится для изучения мира первобытного человека.
27 июня.
Первая стойка
Рома, поднимаясь по лестнице из подвала, зацепил полкирпича ногой, и тот покатился вниз, считая ступеньки, и ударился в дверь.
Рома удивился и стоял на верхней ступеньке, спустив уши на глаза. Долго смотрел, а спуститься и проверить не смел: а вдруг кирпич опять оживет и начнет его бить.
Но и оставить нельзя лежать этот подозрительный, вдруг оживший предмет. Думал он, думал, вертел головой так и так, уши ему очень мешали смотреть вниз. И так он решил, что спуститься и проверить невозможно: вот именно потому и страшно было, что кирпич не подавал никаких признаков жизни, – вещь чем мертвее лежит, тем, значит, страшнее будет, когда оживет.
Тогда Рома начал будить кирпич лаем: брехнет и прыгнет назад, брехнет и прыгнет. На лай прибежала мать, посмотрела вниз, в направлении лая Ромы, медленно со ступеньки на ступеньку стала спускаться. Рома перестал лаять и смотрел вниз, на мать. Кэт осторожно спустилась, понюхала половину кирпича, еще что-то понюхала и, посмотрев вверх на щенка, сказала ему: «Мне кажется, тут все благополучно». После этого Рома успокоился и, подождав на верх мать, прыгнул к шее и стал теребить за ухо.
30 июня
Право собственника
Ярпк нашел кость и глодал ее в траве среди цветущих ромашек. Подбежал к нему Ромка поиграть, но Ярик, предупреждая о кости, зарычал. С другой стороны зашел Ромка – Ярик рычит. Я показал Ярику любимый им белый хлеб и поманил. Он бросил кость и прибежал, и с ним Рома. Оба съели по кусочку. Ярик остался дожидаться другого кусочка, а Рома тихонечко, тихонечко, дальше, дальше, подобрался к кости и улегся грызть ее. Вероятно, воспоминание о вкусном кусочке белого хлеба не давало ему возможности отдаться совершенно грызению кости, и потому он, захватив ее в зубы, прибежал с ней на терраску к нам и, положив кость возле себя, стал просить хлеба. Ярик, увидев свою собственную кость, сделал было слабую попытку ей овладеть, но Рома слегка зарычал, и Ярик признал право собственности за Ромой. Молодым зубам, однако, долго не изгрызть такую кость. Рома через некоторое время устал. А Ярик тут же стоял над душой. Рома сделал вид, что грызет, а сам больше смотрит искоса на Ярика в ожидании, когда он удалится.
Вот показалась молочница, и Ярик, брехнув, побежал встречать ее. А Рома с костью скоро бежит в противоположную сторону, в кусты; скоро там он отыскал рыхлое место, углубил его, перебирая передними лапами, уложил кость, закопал и, выбежав из куста, пустился к молочнице.
– Видишь, Лева, – сказал я, – у них право собственности основано на захвате: уважается не право сильного, а право захвата; кто захватил – тот и владеет, но не вечно, а пока пользуется, малейший перерыв в пользовании открывает другому возможность утвердить свою собственность.
– Не совсем справедливо, – ответил Лева, – иногда бывает совершенно необходимо перервать пользование хотя бы небольшим промежутком.
– Это можно, – говорю я, – но тут у них правило: «не проворонь!» – и умный пес, желая перервать пользование, удаляется с костью подальше и зарывает ее в землю…
5 апреля (1927).
Игра с Ромкой
Я подхожу к окну и стучу по стеклу пальцами. Ромка знает по стуку, что я у окна, и в несколько скачков взлетает на всю высоту штабеля лесных материалов против моего окна: он хорошо знает, что только с этой высоты он может видеть мое лицо у окна.
Несколько мгновений он вглядывается, насторожив уши, потом узнает, и голова становится гладкой, хвост вильнул несколько раз и остановился: Ромка ждет от меня какого-нибудь действия. Я молчу и не двигаюсь. Ему это невтерпеж, он вызывает меня:
– Гам!
И, насторожив уши, ждет ответа. И как только я в ответ на его «гам!» кричу свое «гам!» – стремглав бросается со всей высоты штабеля, мгновенно исчезая из поля моего зрения. Но я знаю, что он делает: он бросается к стене дома под моим окном, потом становится на задние лапы и – такой дурень! – пробует передними лапами дотянуться на всю высоту до окна, превосходящую высоту его прыжка раз в десять.
Его останавливает, однако, не высота: будь лицо мое видимо, он не посмотрел бы на высоту и во что бы то ни стало попробовал бы допрыгнуть до моего носа. Его останавливает от прыжка только то, что лицо мое снизу не видно, останавливает, что исчезла самая цель действия, полученная от зрительного впечатления с высоты штабеля лесных заготовок.
А если исчезло лицо, то надо его скорей увидеть, проверить, все ли я еще стою у окна.
И он в три прыжка взлетает на высоту, всматривается, узнает, опускает уши, опять вызывает меня.