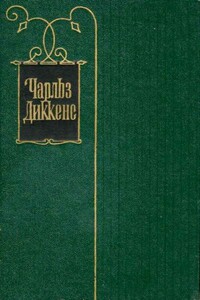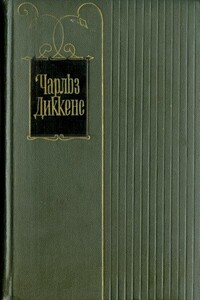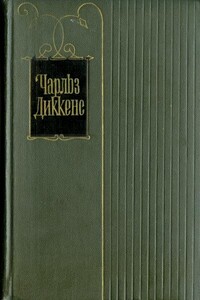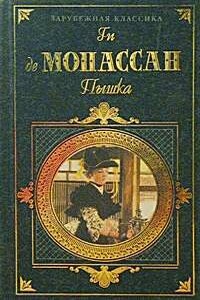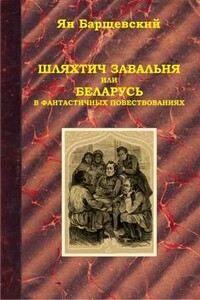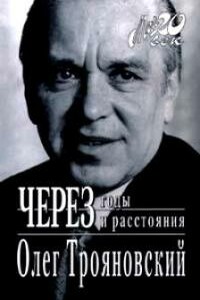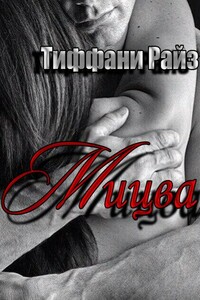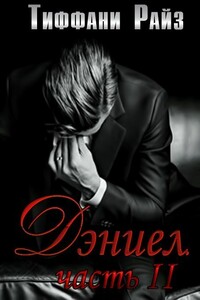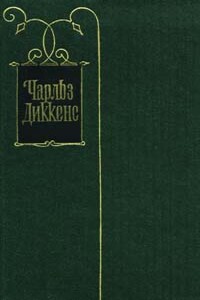Эта повесть была начата через несколько месяцев после выхода отдельным изданием «Записок Пиквикского клуба». Тогда было очень много дешевых йоркширских школ. Теперь их очень мало.
Частные школы долгое время являлись знаменательным примером того, сколь чудовищно пренебрегают в Англии воспитанием и как небрежно относится к воспитанию государство,— к выращиванию добрых или плохих граждан, несчастных или счастливых людей. Любой человек, доказавший свою непригодность к какой-либо другой профессии, имел право без экзамена и без проверки знаний открыть школу в любом месте, тогда как к врачу предъявлялись требования пройти необходимую подготовку, чтобы оказывать помощь ребенку при появлении на свет или способствовать уходу его из этого мира; подобные требования предъявлялись к аптекарю, к адвокату, к мяснику, булочнику, свечному мастеру — к представителям всех профессий и ремесел, за исключением школьных учителей, а школьные учителя, как правило, были болванами и мошенниками, которые, натурально, должны были множиться и процветать при таких обстоятельствах, причем йоркширские учителя занимали самую низшую и самую гнилую перекладину лестницы. Люди, промышлявшие скупостью, равнодушием или тупостью родителей и беспомощностью детей, люди невежественные, корыстные, жестокие, которым вряд ли хоть один рассудительный человек поручил бы уход за лошадью или собакой,— эти люди послужили достойным краеугольным камнем сооружения, которое при всей существующей нелепице и великолепном высокомерном laissez-aller [1] вряд ли имело себе подобное в мире.
Нам приходится слышать о судебных исках, предъявляемых к какому-нибудь несведущему врачу, который искалечил сломанную руку или ногу, когда пытался вылечить ее. Но что можно сказать о сотнях тысяч душ, навеки искалеченных бездарными пройдохами, которые притязали на их воспитание?
Я упоминаю о породе йоркширских учителей в прошедшем времени. Они еще не окончательно исчезли, но с каждым днем их становится все меньше и меньше. Небу известно, что нам предстоит немало поработать в области воспитания, но за последние годы были достигнуты большие успехи и предоставлены средства для усовершенствования в этой области.
Сейчас я не могу припомнить, каким образом дошли до меня слухи об йоркширских школах в ту пору, когда я был довольно болезненным ребенком, проводил время в уединенных уголках близ Рочестерского замка и голова у меня была забита Партриджем, Стрэпом, Томом Пайпсом [2] и Санчо Пансой. Но я помню, что именно в то время составилось первое мое представление о них и что оно было как-то связано с гноящимся нарывом, с которым вернулся домой какой-то мальчик, потому что его йоркширский наставник, философ и друг вскрыл нарыв перочинным ножом, запачканным чернилами. Как бы ни создалось это представление, оно не покидало меня никогда. Я иногда интересовался йоркширскими школами, впоследствии много раз получал о них новые сведения и, наконец, приобретя читателей, решил написать о них.
С этим намерением, прежде чем начать эту книгу, я поехал в Йоркшир, в очень суровую зимнюю пору, которая довольно точно здесь описана. Так как я хотел повидать двух-трех школьных учителей, а меня предупредили, что они, по скромности своей, могут испугаться визита автора «Записок Пиквикского клуба», я посоветовался с одним приятелем [3], у которого были знакомые в Йоркшире, и с его помощью пошел на обман с благою целью. Он дал мне несколько рекомендательных писем, но не на мое имя, а на имя одного из моих дорожных спутников. В них упоминалось о некоем несуществующем мальчике, оставшемся у матери-вдовы, которая не знает, что с ним делать. Бедная леди, воззвав к запоздалому состраданию родни, решила послать его в йоркширскую школу. Я — друг бедной леди, путешествую в этих краях, и если адресат может сообщить мне сведения о какой-либо школе в окрестностях, пишущий эти строки будет ему весьма признателен…
Я побывал в различных местах этой части страны, где по сведениям, мною полученным, было множество школ, но ни разу мне не представлялся случай передать письмо, пока я не приехал в один город, которого я не назову. Того, кому оно было адресовано, не оказалось дома, но вечером, в снегопад, он пришел в гостиницу, где я остановился. Мы пообедали, и долгих уговоров не потребовалось, чтобы он сел в теплый уголок у камина и отведал вина, стоявшего на столе.
Боюсь, что его уже нет в живых. Помню, это был веселый, румяный, широколицый человек; помню, что мы с ним быстро сошлись и беседовали о всевозможных предметах, но только не о школе — этой темы он старательно избегал. «Есть здесь поблизости большая школа?» — спросил я его, возвращаясь к письму. «Да,— сказал он,— школа есть довольно большая».— «И хорошая?» — осведомился я. «Ну, как сказать! — ответил он.— Не хуже всякой другой, как на чей вкус». И стал смотреть на огонь, обводить глазами комнату и потихоньку насвистывать. Когда я вернулся к теме, которую мы обсуждали раньше, он сразу оживился, но сколько я ни пытался, мне так и не удалось поговорить о школе: даже если он перед этим хохотал, я замечал, что лицо у него мгновенно вытягивалось и ему становилось не по себе. После того как мы очень мило провели часа два вместе, он вдруг схватился за шляпу, перегнулся через стол и, глядя мне прямо в лицо, тихо сказал: «Послушайте, мистер, мы с вами хорошо побеседовали, и теперь я вам скажу, что у меня на уме. Пусть эта вдова не отдает своего мальчика нашим школьным учителям, пока еще есть в Лондоне лошадь, за которой нужно присмотреть, и канава, где можно лечь и выспаться. Я не хочу злословить о моих соседях и говорю вам по секрету. Но будь я проклят, если мне удастся заснуть, не предупредив через вас эту вдову, чтобы она не отдавала мальчика таким негодяям, пока есть в Лондоне лошадь, за которой нужно присмотреть, и канава, где можно выспаться!» Повторив эти слова с большой энергией и с такой торжественностью, что его веселая физиономия показалась вдвое шире, чем раньше, он пожал мне руку и удалился. Больше я его не видел, во иногда мне кажется, что в лице Джона Брауди я дал его гуманный образ.