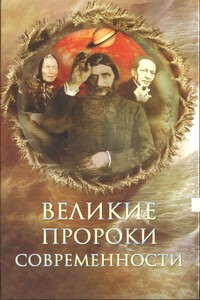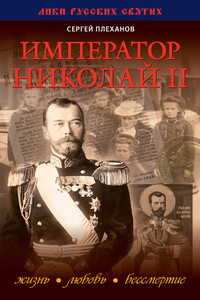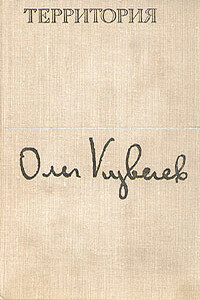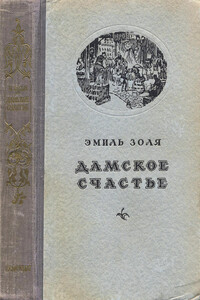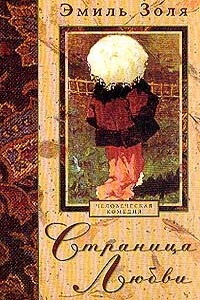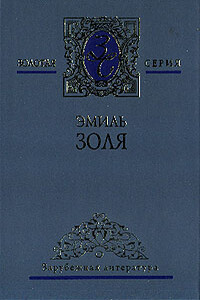I
Каждую осень при открытии театрального сезона меня одолевают один и те же мысли. Я тешу себя надеждой, что, быть может, зрительные залы не успеют еще опустеть с первыми жаркими днями, как появится новый гениальный драматург. Нашему театру так нужен свежий человек, который выметет с подмостков всякую дрянь и возродит искусство, низведенное до ремесленных поделок, удовлетворяющих потребности толпы. Да, нужен человек могучего темперамента, чей новаторский ум расправится с принятыми условностями, трудами которого подлинная драма человеческой жизни заменит нелепые вымыслы, заполонившие нашу сцену. Я живо представляю себе, как он творит новый театр, — пренебрегает профессиональными трюками, отменяет предписанные каноны, расширяет сцену, соединяя ее со зрительным залом, одушевляет трепетом жизни деревья, намалеванные на кулисах, и вносит через холст задника свежий воздух настоящей жизни.
К сожалению, эта мечта, которую я лелею каждый год в октябре, до сих пор не сбылась, и, может быть, ей не скоро суждено сбыться. Напрасно я жду, — одно разочарование следует за другим. Что же это — пустая блажь поэта? Неужели мы навсегда замурованы в этой современной драматургии — такой тесной, что она похожа на погреб, где нет ни света, ни воздуха? Нет сомнений, что если бы драматическое искусство по своей природе действительно не могло выйти за установленные ныне тесные пределы, все равно было бы сладостно отдаваться игре фантазии и с часу на час ожидать возрождения театра. Но вопреки упорству некоторых критиков, которые не любят, когда их сбивают с привычных представлений, вполне очевидно, что искусство драматическое, как и все другие виды искусства, не знает каких-либо ограничений ни справа, ни слева — перед ним раскрыты беспредельные просторы. Препятствием на пути искусства может быть только косность людей, их бессилие.
Чтобы понять необходимость переворота в театре, нужно точно установить, на какой стадии его развития мы находимся сегодня. В период классицизма у нас безраздельно царила трагедия. Она была сурова и нетерпима, она не выносила никаких, даже слабых, поползновений к свободе, она подчиняла самые высокие умы своим непреложным законам. Если тот или иной автор пытался ей противиться, его осуждали за незрелость и непоследовательность мыслей, за странности, — его считали почти опасным человеком. И все же в узких пределах данной формы гении воздвигали нетленные памятники из бронзы и мрамора. Эта форма родилась как возрождение греческого и римского театра; их последователи не видели в установленных античным театром ограничениях помех для создания великих произведений. И лишь позднее, когда наступил черед подражателей, когда появилась целая вереница все более худосочных и вялых эпигонов, стали очевидны недостатки старой формы и обнаружились ее нелепые и фальшивые черты; ее единство оказалось лживым, а постоянная декламация — невыносимой. Впрочем, почтение к трагедии было столь велико, что понадобилось двести лет, прежде чем она вышла из моды. Она хотела было Пойти на компромисс, но безуспешно, — законы, на которых она была основана, под страхом смерти запрещали ей всякие уступки новым веяниям. И вот, как только она попыталась расширить и рамки, она была низвергнута с престола, на котором восседала так долго в озарении славы.
Начиная с XVIII столетия в недрах трагедии уже зарождается романтическая драма. То и дело нарушаются три единства, декорации и мизансцены приобретают большое значение, на сцену выносятся те бурные события, о которых трагедия лишь повествовала в монологах действующих лиц, — словно для того, чтобы драматическое действие не помешало величаво-спокойному психологическому анализу. С другой стороны, высокая страсть великой эпохи теперь уступает место сценическим приемам, серый поток посредственности и скуки затопляет подмостки. В начале этого века трагедия выходит на подмостки наподобие высокой отощавшей актрисы, у которой под бледной кожей не осталось, кажется, ни единой кровинки; укутавшись в лохмотья некогда пышного одеяния, она бредет в полумраке сцены, рампа которой уже погасла. Для возрождения драматического искусства неизбежно требовались новые формы, и вот тут-то шумная романтическая драма и воздвигла свое знамя перед суфлерской будкой. Час был обозначен, то, что готовилось долго, произошло, — на площадке, уготованной для победы, вспыхнул мятеж. Слово «мятеж» здесь как нельзя более кстати, драма насмерть схватилась с трагедией и, из ненависти к этой ныне уже бессильной королеве, уничтожала все, что могло хотя бы напомнить о ее царствовании. Королева бездействовала, она хранила холодное величие на своем троне, все ее действия ограничивались речами и рассказами вестников. А мятежница выдвинула на первый план действие — бурное действие, кипевшее во всех концах сцены; она уже не рассуждала, не анализировала. Глазам зрителя представал кровавый ужас развязок. Трагедия ограничивала себя рамками античности — вечные греки, вечные римляне бездействовали в дворцовых залах и под колоннами храмов; драма избрала средние века, вывела на подмостки доблестных героев и обитательниц старинных замков, воздвигла причудливые декорации: замки на скале над потоком, оружейные залы с доспехами, подземные темницы, сочащиеся сыростью, вековой лес в лунном свете. Во всем проявляется этот антагонизм: романтическая драма становится вооруженным врагом трагедии и безжалостно борется с ней всеми средствами, которые она может противопоставить старой театральной системе.