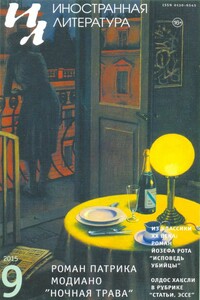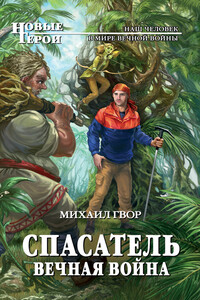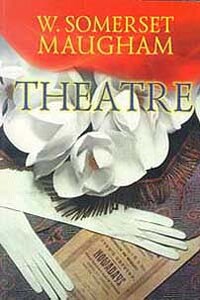«Я замыслил тогда прожить такую жизнь, в которой писательство, не исключая других форм деятельности, играло бы самую существенную роль и которую гармонично завершала бы смерть.
Гармония в моем случае уже достигнута».
(У. Сомерсет Моэм.
В девяностолетний юбилей)
В 1897 году рецензент английского журнала «Литературный мир» с похвалой отозвался о дебюте молодого автора — романе «Лиза из Ламбета»: «Поставленную перед собой задачу он исполнил с примечательным умением». В 1964 году маститый английский писатель Уильям Сомерсет Моэм (1874—1965) подвел черту: «Я давно уже перенес на бумагу все, что у меня было, и отложил перо в сторону». Однако же старый мэтр, более полувека отслуживший английской изящной словесности, не удержался и посетовал: «Меня, правда, взяла досада, что я не успел закончить новую книгу...»
Между этими двумя вехами умещается впечатляющий литературный труд — множество романов, рассказов, эссе, пьес, очерковых книг, критических выступлений и т. п.— и долгая человеческая жизнь: в целом благополучная, отмеченная бесконечными путешествиями, поездками, встречами, жадным вниманием к многообразию мира и людей.
Сам мастер сказал на закате лет:
«Жизнь у меня была полная, интересная».
Здесь необходимо уточнение. При том, что Моэм отнюдь не был аскетом и понимал толк в чувственных радостях существования, жизнь его была отдана творчеству, слову, о чем сам он писал с присущей ему определенностью в книге «Подводя итоги» (1938), этом необычном для английской литературы соединении автобиографии, свободного эссе об искусстве, осторожной исповеди и эстетического трактата. «В каждом человеке я вижу не самоцель, а материал, который может пригодиться мне как писателю». Такой материал видел он и в собственной жизни.
Один из самых проницательных в английской литературе XX столетия авторов, писавших о трагикомедии жизни, Моэм делал упор на комедии, но, когда полагал нужным, с не меньшим мастерством и пронзительной силой изображал трагические развязки судеб, пагубу заблуждений и самообманов, роковое торжество «общественного мнения» над естественными стремлениями личности. С первого же произведения, которое он опубликовал еще студентом медицинского института при лондонской больнице святого Фомы, Моэм предпочитал говорить своим соотечественникам вещи нелестные, малоприятные, а то и вовсе, с их точки зрения, недопустимые и даже оскорбительные.
Дело заключалось не в том, о чем он писал,— писал о многом и разном: о лондонских трущобах и литературных салонах, об английской провинции и столичной аристократии, о культурных центрах Европы и об экзотических уголках планеты. И даже не в том, что он издевался над официально провозглашенными установлениями, клеймил общественные язвы и смеялся над индивидуальными пороками: этим занимались и до него, и занимались успешно, так что обличение социальных несправедливостей и критика нравов есть неотъемлемая часть британской литературной традиции — Джон Беньян, Свифт, Филдинг, Смоллетт, Джейн Остен, Диккенс, Теккерей, Джордж Элиот, Сэмюел Батлер. Все заключалось в том, как это делал Моэм.
Сдержанно. Невозмутимо. Непринужденно. Тонко. С убийственной иронией. Не давая при этом поблажки и себе самому, кем бы ни выступал его alter ego, главным ли действующим лицом или просто рассказчиком, и какое бы имя ни носил — Филипа Кэри («Бремя страстей человеческих», 1915), Уильяма Эшендена («Луна и грош», 1919; одноименный сборник рассказов, 1928; «Пироги и пиво», 1930) или, просто и откровенно, мистера Моэма («Острие бритвы», 1944).
Он говорил современникам то, что о них думал, и заставлял их увидеть себя такими, какими они доподлинно смотрелись на «ярмарке житейской суеты» (метафора Д. Беньяна). Автор и себя числил среди участников этой ярмарки и не только не стремился приобрести за счет ближних моральный капитал в глазах читателя, но сам себя подчас судил более нелицеприятно, чем действующих лиц.
Такая позиция невольно провоцировала даже читателей, не говоря о критиках. Если уж сам автор, скрываясь за фигурой повествователя, подчеркивает, что отказывается выносить нравственный суд над жизнью, что он не выше и не ниже, не лучше и не хуже своих персонажей, то, стало быть, все люди таковы. Неутешительный вывод, особенно для тех, кто считает, что уж к его-то персоне рассказанное в книге не может иметь никакого отношения. Моэма требовалось уличить в предвзятости, еще лучше — в очернительстве, чтобы объяснить такую его творческую установку. На помощь пришла нормативная эстетика.
Она сложилась в Великобритании в XIX веке при королеве Виктории и все еще пыталась диктовать художникам свои законы, когда Моэм был уже посредине своего творческого пути. Эта эстетика с ее твердым кодом «нравственного» и «подобающего» в искусстве и литературе не только указывала, что прилично (то есть можно), а что неприлично (то есть нельзя) изображать, но и требовала неукоснительного разграничения и противопоставления добра и зла, добродетели и порока, причем порок надлежало заклеймить и наказать, а добродетели дать продемонстрировать свое торжество и схлопотать награду. Моэм эти требования постоянно нарушал, как нарушает их сама жизнь, а критика делала вывод, что он не различает добро и зло, что для него не существует святынь, что он способен лишь охаивать да осмеивать. Иными словами, что автор — циник.