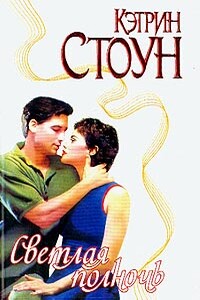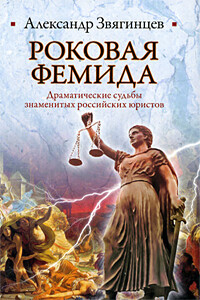Как-то октябрьским утром я проснулась в своей крошечной квартирке на Линкольн-парк. Было семь утра – как обычно. Я поднялась, съела сухую вафлю, натянула на себя четыре слоя одежды и направилась к станции «L» на Фуллертоне, где, примерно в восемь пятьдесят, села на поезд – как обычно. Ничего утром не казалось другим, но в этот день правила игры поменялись – правда, я пока об этом не знала. Через три вагона нашла его. Я уселась рядом со своими братьями - прихожанами и приготовилась к мессе. Каждое утро вагон становился нашей церковью, а нашим пастором был Просто Боб, по крайней мере, он был им для меня. Когда мы впервые встретились, я спросила, как его зовут, и он сказал: «Боб». Я ждала продолжения, и тогда он сказал: «Просто Боб», так что я звала его так.
По-хорошему, еще семь месяцев назад при виде парня по имени Просто Боб, проповедующего в поезде толпе невинных овечек, в моей двадцатишестилетней голове должны были зазвенеть предупреждающие звоночки. Но это не произошло. Как только я его услышала, оказалась на крючке. Просто Боб никогда не упоминал Библию, или религию, или огонь, или серы – ничего подобного. Первое, что услышала от него в тот день: «Вы – то, что у вас есть!».
АМИНЬ.
Это был старый человек с усталым лицом, на вид ему было около семидесяти, если не больше. Несколько седых волос венчиком окружали макушку его круглой лысой головы. Неизменные докеры и пендлтоны каждый день. Его одежда была чистой, по крайней мере, такой казалась, но я каждый раз ощущала исходящий от Просто Боба отчетливый запах. Он пах старыми книгами, как будто из хранилища самой старинной библиотеки в мире. Я представляла себе, что он живет в милом домике, который от пола до потолка заставлен устаревшими изданиями. Ему было тяжело стоять, тяжело ходить, и то, что он, как часы, каждое утро появлялся на этом поезде просто, чтобы поговорить со своими верными последователями, было настоящим маленьким чудом. Нас было человек десять. Я никого не знала – каждый из нас держался особняком – но лица за семь месяцев стали легко узнаваемыми.
В Чикаго есть целая куча абсолютно чокнутых людей, которые садятся на станции «L» и громко разговаривают со всем вагоном, не обращаясь ни к кому в отдельности. Я ездила на этом поезде всю жизнь, но только Просто Боб отличался от остальных. У него было послание для нас, в котором я так нуждалась. Каждый день оно было разным. Иногда он говорил как Сьюз Орман и обсуждал личные финансы, в другие дни рассказывал о пестицидах и консервантах в еде – он думал, что из-за них люди вырастают гигантами. Сегодня он совершенно точно был этаким Ганди с жутким чикагским акцентом. Он рассказывал об изменениях, которых мы так хотим.
Он говорил:
— Образ материален, вот, что я хочу сказать вам сегодня, друзья мои. Сначала вы должны увидеть, что случится, прежде чем это произойдет. Станьте своими собственными оракулами. Представьте себе мечту, и она сбудется!
Приближалась моя станция, я поднялась и направилась к выходу. Во время своей проповеди, Просто Боб часто сидел напротив дверей. Когда я проходила мимо, он поднялся на своих слабых ногах и положил руку мне на плечо. Это было очень необычно.
— Кейт, — сказал он. Я даже не знала, что ему известно мое имя. — Правила игры изменятся для тебя сегодня. Образы материальны.
И потом, как обычно, в конце своих проповедей, Просто Боб добавил:
— И помни…
Он вздернул брови, дав понять, что ждет от меня окончания реплики.
— Я – это то, что у меня есть, — сказала я.
— Точно.
Если оглянуться назад, все это выглядело жутковато, но это было именно то, что мне тогда было нужно. Он отпустил мое плечо, и я сошла с поезда в леденящий чикагский ветер на станции Стейт-стрит с необычным ощущением того, что моя жизнь уже не будет прежней.
И это были не те маленькие болезненные перемены.
С тех пор, как я повстречала Просто Боба, стала искать его на Коричневой ветке каждое утро, даже, если из-за смены маршрута все оканчивалось опозданием на работу. Это началось ровно через неделю после смерти Роуз, как раз тогда, когда я почувствовала себя по-настоящему, полностью одинокой. Роуз была подругой детства моей матери, и растила меня с тех самых пор, как маму унес рак груди — мне тогда было восемь. Я родилась, когда моей маме было сорок, и она уже почти отчаялась забеременеть, но тут встретила моего отца. К несчастью, он не остался с ней. Я никогда его не видела.
Моя мама была удивительной. Она считала меня чудом, безумно меня любила и старалась дать мне все то, в чем я нуждалась. В то же время она учила меня мыслить самостоятельно. До самой своей болезни мама казалась мне образцом рассудительности – такой уж у нее был характер, и я до сих пор помню ее слова: «Ты – красивая девочка, Кейт, но никогда не полагайся на свою внешность». Она могла коснуться пальцем моего виска и сказать: «Подумай-ка над всем этим».
Я помню ее ласковой, но жесткой, как будто мама пыталась меня подготовить к сложностям жизни. У меня всегда было ощущение того, что мама недолго со мной пробудет, так и вышло, но, в конце концов, у меня оставалась Роуз… до недавнего времени. Она умерла от инфекции после простой операции по удалению желчного камня. Я не могла понять, как Бог мог одного за другим забирать тех, кто заботился обо мне. Но потом я поняла: