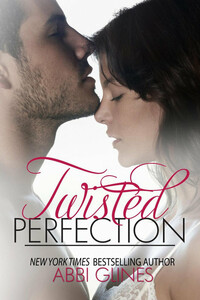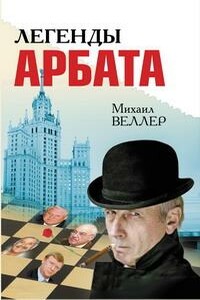Свою литературную судьбу я считаю начавшейся с того момента, когда во время прохождения лагерных сборов от военной кафедры университета я пошел на риск первой публикации и написал рассказ в ротную стенгазету. Сей незатейливый опус, решительно не имевший значительных литературных достоинств, тем паче опубликованный в весьма малоизвестном издании тиражом одна штука, вызвал неожиданный резонанс. В рассказе я не до конца одобрительно отозвался о некоторых моментах курсантского внутреннего распорядка, как-то: строевая подготовка, строевая песня, надраивание сапог перед едой и т. д. Из редакционных соображений отрицательное мое к этому отношение было по форме облечено в панегирик, где желаемый эффект достигается гипертрофией восхвалений. Прием это старый, азбучный: восхваления достигали такого количества, что переходили, нарушая меру, в противоположное качество, – что и требовалось.
Курсанты-студенты тихо радовались содержанию, а офицеры кафедры тихо радовались форме (возможно, они не обладали столь изощренным диалектическим чувством меры, как искушенные гуманитары – историки и филологи). Этот литературный экзерсис по-своему может расцениваться как идеальный случай в искусстве, где каждый находит в произведении именно то, что родственно ему.
Но – скрытые достоинства искусства из достояния элиты рано или поздно становятся всеобщим достоянием или, по крайней мере, доводятся до всеобщего сведения. Миссия просветителя пала на одного майора, волею судьбы закончившего возиться с жизнью.
Майор приступил к комментированному чтению. Он подводил офицеров поочередно к стенгазете и настойчиво предлагал ознакомиться. Когда читатель заканчивал и недоуменно вопрошал: "Ну и что же?", майор с университетским образованием удовлетворенно и с превосходством улыбался и разъяснял малоквалифицированному коллеге вредоносную и замаскированную сущность пасквиля, торжественно следя, как лицо очередного травмированного неисповедимым коварством литературы, вытягивается, являя собой подтверждение древней истине "ибо во многой мудрости много печали, и кто умножает знание, тот умножает скорбь".
Вслед за тем я узнал, что означает "автор ощутил на себе влияние собственного произведения".
Миссия просветительская, как известно, неразрывно связана с миссией воспитательной. Покончив с первой, майор безотлагательно приступил ко второй. Он выстроил роту на плацу, поставил меня по стойке «смирно» и высказал свои взгляды на литературу и литераторов, богатством языка высоко превзойдя скромный стиль моей безделушки. Он обладал поставленным командным голосом, и эрудицию пополнила не только наша рота, но и весь полк, собравшийся у окон казарм.
Лишь раз в своей энергической речи он промахнулся: пообещал с моим рассказом прийти в деканат; рота предвкушающе заржала, представив прелестнейший конфуз: в деканате сидели люди, волею привычки понимающие скорее филологов, чем кадровых строевиков. (В дальнейшем майор исправил свою оплошность, вполне грамотно).
Первым моим гонораром явились, таким образом, пять нарядов вне очереди. И когда ночью, выдраив туалет, я курил там в печальном предвидении ближайшего будущего, зашедший сержант из другого взвода, лет уже под тридцать, усатый, толстый, очень какой-то добрый, уютный и домашний, пробасил сочувственно: "Что, брат, трудно быть писателем на Руси?"
Слово «писатель» было применено ко мне в первый раз. И я даже почувствовал в этой ситуации некое посвящение.
Остается добавить, что я был уличен на госэкзамене в незнании материальной части и приборов и единственный из двухсот тридцати человек его не сдал. Перед четвертым заходом главы учебника снились мне постранично. А в ноябре в деканат пришла основательная бумага с военной кафедры, где поведение мое в период прохождения сборов квалифицировалось как отменно недисциплинированное и безнравственное: майор не стал приходить в деканат с рассказом, разумно учтя все факторы. В результате меня чуть не выперли из университета, и если бы майор увидел мое мученическое лицо, с коим я доказывал необязательность отчисления меня с пятого курса, мотивируя это государственными затратами и своей безрассудной любовью к литературе, он счел бы себя сторицей отмщенным.
Видимо, по врожденной беспечности характера я не сделал выводов из этой достаточно поучительной для мало-мальски сообразительного человека истории. Несмотря на то, что кончал я русское отделение, золотая фраза Чехова: "Младенца по рождении надобно высечь, приговаривая при этом: "Не пиши! Не пиши!" не укоренилась в моем поверхностном сознании достаточно глубоко. Ибо второй рассказ я опубликовал в факультетской стенгазете, после чего факультет разделился по отношению ко мне на три части: первые сочли меня гением, вторые доискивались сути насмешки над читателем, а третьи просили объяснить им, почему меня приняли в университет, а не в специнтернат для дефективных; это была самая многочисленная часть.
Но – "если человек глуп, то это надолго". Имея в характере наряду с беспечностью упрямство, я, пострадав от двух собственных рассказов, взялся за изучение чужих и придумал себе тему диплома: "Типы композиции рассказа". Тема эта необъятна тем более, что в нашем литературоведении ею и поныне никто не занялся; тем сильней она меня привлекала. Строго говоря, способы построения рассказа вполне перечислимы, если не лить воду и не мутить ее. Однако от меня, разумеется, шарахались все здравомыслящие преподаватели, не желая связываться с подобным авантюристом, пока не нашелся один страстно любящий теорию литературы доцент, запамятовавший, не иначе, что его недавно выгнали за нечто же подобное из другого университета.