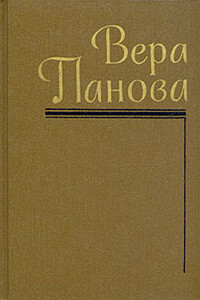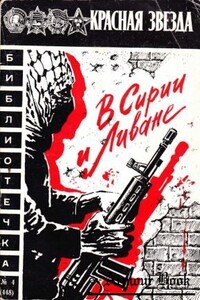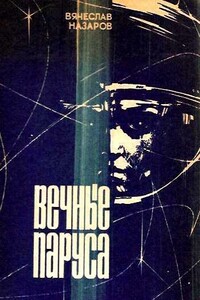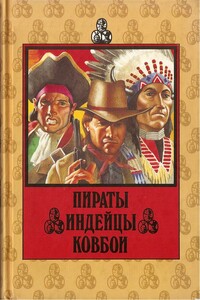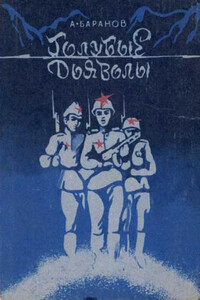Даки подбрасывала в печь сухие стебли перекати-поле, когда в саклю вошел Данел.
— Зачем топишь печь, мать наших детей? — удивился он, расстегивая бешмет, полы которого были так истерханы, словно они побывали в зубах целой своры свирепых псов.
Даки взглянула на мужа, подоткнула под платок поседевшую прядь волос, мужественно проглотила готовый вырваться из груди вздох.
— Соседи могут подумать, у нас не из чего варить обед, отец наш, — ответила она нарочито бодро, — они ведь не знают, что в нашей кладовой полно муки и жира. Пусть видят, у нас тоже идет дым из трубы.
Данел гмыкнул, почесал ногтями волосатую, не прикрытую ничем, кроме бешмета, грудь, скользнул взглядом голубых глаз по пустым чашкам, стоящим на почерневшем от времени кусдоне [1].
— Я давно не видел Аксана Каргинова. Пойти, что ли, его проведать? —остановил он взгляд на ссутулившейся раньше срока женщине, родившей ему шесть дочерей и сына. Четырех из них он уже выдал замуж, но так и не разбогател от полученного калыма — нужда проклятая, как дырявый бешмет: в одном месте зашьешь — в другом прорвется. Вся надежда на сына: вырастет — кормильцем будет. Надо отдать его в школу, пусть из него получится ученый человек, как Бимбол у Латона Фарниева. Ведь не зря он в годовщину своего рождения, сидя на полу с разложенными на нем разными вещами, схватился ручонками не за кнут, не за ножницы и даже не за кинжал, а за книгу.
Даки вместо ответа пожала плечами: «Делай как знаешь, хозяин души моей».
— Почему я не вижу в хадзаре наших дочерей, быть бы мне жертвой за них? — вновь нарушил тишину глава семейства, застегивая бешмет и направляясь к выходу.
— Они ушли в степь собирать бурьян для топлива.
— А где наш сын?
— Ох-хай! Если бы я сама об этом знала, — сокрушенно вздохнула женщина.
— По теленку узнают будущего быка, — насупился Данел, задерживаясь у порога. — Мальчишка прожил уже девятую зиму, а до сих пор еще не знает, как держаться за плуг.
— Он мал ростом и слаб телом, — заступилась мать за своего любимца.
— Э... — скривился Данел, — не то говоришь. Другого от тебя не услышишь, хоть простоишь рядом целый год. Ты мне лучше скажи, где у нас спрятана баранина, из которой ты собираешься сварить похлебку?
Даки дернула краем губ.
— Вон лежит на кусдоне, отец наш.
Данел подошел к посудной полке, взял в руку помазок — обгорелый кусочек бараньего жира — провел им по своим усам, заговорщицки подмигнул супруге:
— Пусть соседи знают, что Данел Андиев любит есть на праздник не только малай [2], но и баранину.
— Смотри, наш мужчина, чтобы не разболелся у тебя живот от жирной пищи, — усмехнулась Даки, наблюдая искоса, как муж подкручивает перед осколком зеркала залоснившиеся от жира усы.
— Воллаги! — поднял к потолку руки Данел. — У женщины язык все равно что жало у гадюки, — с этими словами он вышел из хадзара на улицу.
Хорошо–то как вокруг! Небо синее, солнце яркое, воздух свеж и резок от запаха дымящихся навозных куч и тающего снега. Звонко и радостно журчит в лужице сбегающая с крыши капель, словно поет о наступающей весне, о всепобеждающей силе жизни. «Клянусь небом, мы еще будем петь песни в нашей сакле», — подумал Данел, направляясь мимо хуторского колодца к дому Аксана Каргинова. Если у Данела пусто в кабице, еще не значит, что сам он пустой человек. Не случись тогда беда с зятем Степаном, не шел бы он сейчас за мукой к богачу Аксану. Ай-яй, какого дурака свалял он в казачьей станице! И зачем набросился на этого хестановского выродка? Подвел зятя. Подвел богомаза. Теперь зять в тюрьме сидит. Богомаз сидит. Сам Данел тоже целый месяц под стражей находился. Спасибо дочери: выпросила ему прощение у начальника полиции. Наложили штраф, взяли подписку о невыезде и домой отпустили. Пришлось корову продать, коня продать... до сих пор жалко Витязя, Степанова подарка.
— День твой да будет добрым!
Данел повернулся на приветствие: по одной из тропинок, что сходились со всех сторон хутора к колодцу, словно спицы в ступице колеса, брел ему наперерез старый бобыль Чора. В узких глазах его выражение суровой решимости, в руках — дохлая кошка.
— Пусть и тебе, наш брат, принесет этот день одни только радости, — прикоснулся к своей груди ладонью Данел и остановился, поджидая, когда родственник подойдет поближе. — Куда ты несешь эту падаль?
Чора переложил кошачий хвост, из правой руки в левую, прежде чем пожать руку повстречавшегося родственника, и ответил с гневным презрением в голосе:
— Я несу ее на могилу Вано Караева, пускай отведает дохлятины, раз его сын Мате совсем потерял совесть.
— Да что он такое натворил? — удивился Данел. — Может быть, он украл у тебя барана?
Чора с укоризной взглянул, на насмешника, снова переложил из руки в руку кошачий хвост:
— Он украл у меня веру в человеческую справедливость: вот уже сколько лет не отдает мне долг.
— Что ж он тебе задолжал?
— Новую шапку и таск [3] кукурузы.
— Зачем же ты отдал ему новую шапку, когда сам в облезлой ходишь?
— Пустое говоришь, — поморщился Чора, — Я не шапку ему давал, я целых полдня рассказывал этому бесчестному человеку про то, как живет в Стране мертвых его отец. За это он пообещал мне новую шапку. Пообещал и не дал — все равно что украл. Вот отнесу его отцу на обед дохлую кошку, пускай тогда покрутится этот старый мошенник Мате.