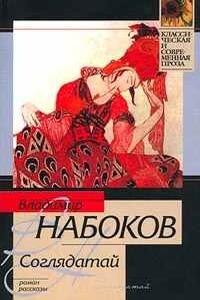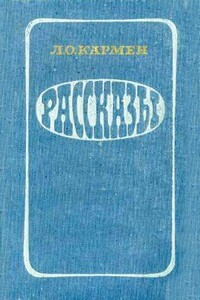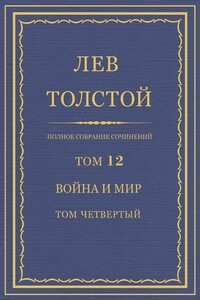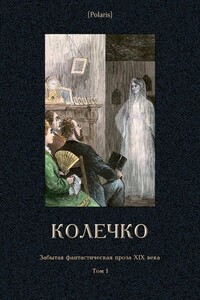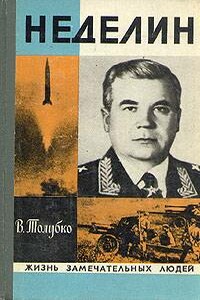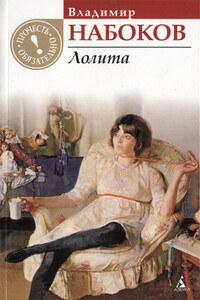Шум водопада становился все глуше, все глуше, — наконец он смолк, — и вот мы продвинулись дальше в дикую, лесистую, еще никем не исследованную область, шли, шли давно, — впереди Грегсон и я, за нами, гуськом, восемь туземных носильщиков, а позади всех — ноющий, возражающий против каждой пяди пути, Кук. Я знал, что Грегсон завербовал его по совету знакомого охотника: Кук уверял, что готов на все, лишь бы не маяться в Зонраки, где полгода варят “вонго”, а другие полгода “вонго” пьют, но осталось неясным, — или уже я многое начинал забывать, пока мы шли, шли, — кто он такой, Кук (быть может, беглый матрос).
Грегсон шагал рядом со мной, жилистый, голенастый, с костлявыми голыми коленями. Он держал, как знамя, зеленую сетку на длинном древке. Носильщики, тоже набранные в Зонраки, рослые бадонцы глянцевитой коричневой масти, с густыми гривами, с кобальтовой росписью между глаз, шли легким и ровным ходом. Позади всех, рыжий и одутловатый, с отвислой губой, плелся Кук, держа руки в карманах, не нагруженный ничем. Смутно мне помнилось, что в начале экспедиции он много болтал и темно шутил, повадкой своей, смесью наглости и подобострастия, смахивая на шекспировского шута, — но вскоре он сдал, насупился, перестал исполнять свои обязанности, в которые между прочим входило толмачество, ибо Грегсон плохо еще понимал бадонское наречие.
Томная жара, бархатная жара. Душно пахли перламутровые, похожие на грозди мыльных пузырей, соцветья Valeria mirifica, перекинутые через высохшее узкое русло, по которому мы с шелестом шли. Ветви порфироносного дерева, ветви чернолистой лимии сплетались над нашими головами, образуя туннель, там и сям прорезанный дымным лучом; наверху, в растительной гуще, среди каких-то ярких свешивающихся локонов и причудливых темных клубьев, щелкали и клокотали седые как лунь обезьянки, и мелькала подобно бенгальскому огню птица-комета, кричавшая пронзительным голоском. Я говорил себе, что голова у меня такая тяжелая от долгой ходьбы, от жары, пестроты и лесного гомона, но втайне знал, что я заболел, догадывался, что это местная горячка, — однако решил скрыть свое состояние от Грегсона и принял бодрый, даже веселый вид, когда случилась беда.
“Моя вина, — сказал Грегсон, — напрасно я с ним связался”.
Мы были теперь одни. Кук и все восемь туземцев, — с палаткой, складной лодкой, припасами, коллекциями, — бросили нас, бесшумно скрывшись, пока мы возились в зарослях, где собирали прелестнейших насекомых. Кажется, мы попытались догнать беглецов, — я плохо помню, — во всяком случае нам это не удалось. Надо было решить, возвращаться ли в Зонраки или продолжать намеченный нами путь через еще неведомую местность к холмам Гурано. Неведомое перевесило. Мы двинулись вперед, — я, уже весь дрожащий, оглушенный хинином, но все-таки собирающий безымянные растения, и Грегсон, вполне понимающий опасность нашего положения и все-таки с прежней жадностью ловящий бабочек и мух.
И вот, не успели мы пройти и полмили, как внезапно нагнал нас Кук, — рубашка на нем была разорвана, — и кажется им же нарочно разорвана, — он хрипел, он задыхался. Грегсон молча вынул револьвер и приготовился застрелить негодяя, но тот, валяясь у него в ногах и обеими руками защищая темя, стал клясться, что туземцы увели его насильно и хотели его съесть, — ложь, бадонцы не людоеды. Думаю, что он без труда подговорил их, глупых и опасливых, прервать сомнительное путешествие, но не учел, что ему не поспеть за могучим их шагом и, безнадежно отстав, воротился. Из-за него пропали бесценные коллекции. Его надо было убить. Но Грегсон спрятал револьвер, и мы двинулись дальше, а за нами — тяжко дышащий, спотыкающийся Кук.
Лес понемногу редел. Меня мучили странные галлюцинации. Я глядел на диковинные древесные стволы, из коих некоторые обвиты были толстыми, телесного цвета, змеями, и, вдруг, будто сквозь пальцы, мне померещился между стволами полуоткрытый зеркальный шкап с туманными отражениями, но я встряхнулся, я посмотрел внимательным взглядом, и оказалось, что это обманчиво поблескивает куст акреаны, — кудрявое растение с большими ягодами, похожими на жирный чернослив. Через некоторое время деревья расступились совсем, и небо выросло перед нами плотной синей стеной. Мы очутились на вершине крутого склона. Внизу мрело и дымилось огромное болото, и далеко за ним виднелась дрожащая гряда мутно-лиловых холмов.
“Клянусь Богом, мы должны вернуться! — рыдающим голосом произнес Кук. — Клянусь Богом, мы пропадем в этих топях, у меня дома семь дочерей и собака. Вернемся, мы знаем дорогу назад...”
Он ломал руки, по его толстому лицу с рыжими треугольниками бровей катился пот. “Назад, назад, — повторял он. — Вы достаточно наловили мух. Вернемся!”
Мы с Грегсоном принялись спускаться по каменистому склону. Кук остался было стоять наверху — маленькая белая фигура на чудовищно зеленом фоне леса, — но вдруг взмахнул руками, крикнул, начал боком спускаться за нами.
Склон как бы заострился, образуя каменный гребень, который длинным мысом уходил в сверкающие сквозь пар топи. Полдневное небо, освобожденное теперь от лиственных завес, тяготело над нами ослепительной тьмой, — да, ослепительной тьмой, иначе не скажешь. Я старался не поднимать глаз, — но в этом небе, на самой границе поля моего зрения, плыли, не отставая от меня, белесые штукатурные призраки, лепные дуги и розетки, какими в Европе украшают потолки, — однако, стоило мне посмотреть на них прямо, и они исчезали, мгновенно куда-то запав, — и снова ровной и густой синевой гремело тропическое небо. Мы еще шли по каменному мысу, но он все суживался, изменял нам. Кругом рос золотой болотный камыш, подобный миллиону обнаженных, горящих на солнце сабель. Там и сям вспыхивали продолговатые озерки, над ними темными облачками висела мошкара. Вот, пушистой вывороченной губой, будто испачканной яичным желтком, потянулся ко мне крупный болотный цветок, родственный орхидее. Грегсон взмахивал сачком, проваливался по бедра в парчовую жижу, и громадная бабочка, хлопнув атласным крылом, уплывала от него через камыши, туда, где в мерцании бледных испарений туманными складками ниспадала как бы оконная занавеска. Не надо, не надо, — я отводил глаза, я шел дальше за Грегсоном, то по камню, то по шипящей и чмокающей почве. Меня знобило, несмотря на оранжерейную жару. Я предвидел, что сейчас совсем обессилю, что бредовые рисунки и выпуклости, просвечивающие сквозь небо и сквозь золотые камыши, сейчас овладеют моим сознанием полностью. Мне порою казалось, что Грегсон и Кук становятся прозрачны, и что сквозь них видны бумажные обои в камышеобразных, вечно повторяющихся узорах. Я превозмогал себя, таращил глаза и продвигался дальше. Кук уже полз на карачках, кричал и хватал Грегсона за ноги, но тот стряхивал его и продолжал путь. Я смотрел на Грегсона, на его упрямый профиль, — и с ужасом чувствовал, что забываю, кто такой Грегсон, и почему я с ним вместе.